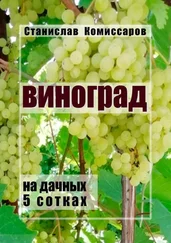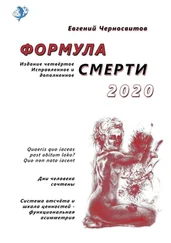Этот недостаток может в какой-то мере восполняться публикациями в журнале «Вестник РАН», в газете «Поиск» и научно-популярных журналах, а также в других, в том числе и массовых, изданиях. На страницах «Вестника РАН», например, публиковались дискуссионные материалы (февраль 2002 г.) о «новой хронологии» А. Т. Фоменко. «Независимая газета» 25 июня 2003 г. опубликовала две статьи — «Социальный заказ на “практическую” магию» Э. Круглякова и «Охота на академических ведьм» А. Рухадзе и Л. Уруцкоева, выражающие различные точки зрения на работу Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, возглавляемой Э. Кругляковым. Одной из причин такого различия является нечеткость, размытость термина «лженаука», вдобавок к тому же еще и отягощенного мрачными историческими реминесценциями.
При неосторожном использовании этого понятия можно не заметить различия между добросовестным заблуждением, случайной ошибкой и злостным мошенничеством или психическим отклонением, которое, как известно, может быть и симуляцией. Ответ на вопрос «bad or mad?» (мошенник или сумасшедший?) порой столь же неочевиден, как и в случае квантовомеханического «кота Шрёдингера», поскольку в действительности эти различные состояния могут реализовываться в одном и том же персонаже.
В книге Э. П. Круглякова «“Ученые” с большой дороги» приведено множество примеров «научного» шарлатанства и паразитирования на авторитете науки, однозначная оценка которых вряд ли может вызывать какие-либо серьезные сомнения у большинства нормальных ученых. Однако эта однозначность утрачивается в некоторых «пограничных» ситуациях, когда публикуемые результаты не дают достаточных оснований для отнесения их к «лженауке», но вызывают яростную полемику в научной среде, в том числе и по вопросу о допустимости подобных публикаций на страницах серьезных научных изданий. О двух таких публикациях в 2002 г. упоминается в журналах «Nature» (24. 10. 2002) и «Science» (08. 03. 2002), в которых сообщается о наблюдении ядерных реакций, инициируемых акустической кавитацией в дейтерированном ацетоне. Авторы статьи в «Nature» (24. 10. 2002) подчеркивают, что исследователи спорят относительно того, насколько обоснованы выводы этих публикаций полученными экспериментальными данными, и никаких предположений о научной недобросовестности при этом не делается.
Большие прорывные открытия в науке случаются не очень часто, но работа научного сообщества продолжается непрерывно, оставаясь в основном малопонятной и малоинтересной для широких слоев населения и СМИ, ориентированных обычно на любого рода сенсации. Для оценки деятельности ученых используются различные подходы и критерии. Формальным признанием определенных научных достижений и заслуг является присуждение ученых степеней и званий, различных премий и других наград. К числу формальных показателей научной активности относятся такие критерии, как число публикаций и индекс цитируемости, т. е. число ссылок на работы данного ученого в научной литературе.
Очевидно, что никакие формальные процедуры сами по себе не могут обеспечить полной объективности оценки труда и достижений ученых, в том числе и с мировым именем, о чем явно свидетельствуют некоторые известные случаи из прошлой и настоящей жизни научного сообщества, например, неизбрание членами Академии наук А. А. Власова, В. С. Летохова и др., очередной скандал вокруг решения Нобелевского комитета — в последний раз в связи с присуждением премии по медицине и физиологии 2003 года — и т. п. Результаты применения формальных методов в этой области оказываются в гораздо большей зависимости от интересов и пристрастий ученых, чем это по общепринятым нормам допускается непосредственно в научных исследованиях. Весьма распространенным «грехом» научных работников является «раздувание» числа собственных публикаций (см., например, «Nature», 16. 01. 2003). В отличие от этого параметра индекс цитируемости представляется более объективным, но и такой критерий не свободен от ряда недостатков (см., в частности, публикации в «Независимой газете» 26. 06. 2002 и 14. 05. 2003). В связи с этим стоит отметить и тот факт, что упоминание в какой-либо статье ученого с мировым именем не всегда сопровождается наличием соответствующей ссылки в списке литературы на его оригинальные работы. По этой причине индекс «цитируемости» Ньютона, Фарадея, Максвелла, Шрёдингера и других гигантов мировой науки скорее всего окажется весьма низким. Это обстоятельство может влиять также и на индекс цитируемости наших более близких современников, чье имя «прикреплено» к названиям уравнений или физических эффектов (уравнения Власова, Гинзбурга-Ландау, черенковское излучение, эффекты Джозефсона, Мёссбауэра и др.).
Читать дальше
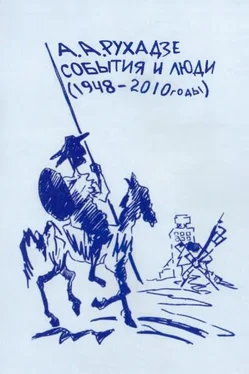
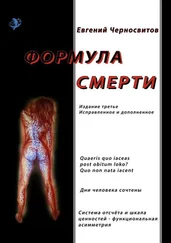
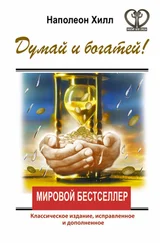


![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)