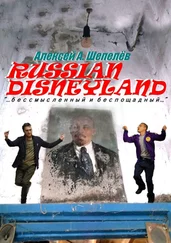— А на Старо-Горшечной студент повесился, — сказал Григорьев. — Чёрт знает, что делается! Одних вешают, другие сами вешаются. Погибнет Россия. Доконает её Александр Александрович.
— А если спасёт? — сказал Николай.
— Чем, жестокостью? Не Россию, а себя спасает. И мстит за отца. Все тюрьмы переполнил.
— Наводит порядок. Как же иначе? Иначе нельзя.
Григорьев отпрянул от окна, взглянул на Федосеева.
— Вы что. монархист?
— Я подданный Российской империи.
— И только?
— Подожди. Миша, не спеши, — сказал Лалаянц. — Садись. Николай, давайте поговорим откровеннее.
— Давайте. — Федосеев повернулся спиной к улице. облокотился на колени, и белёсые волосы его рассыпались, упали на виски.
— Мы уже не отроки, — сказал Исаак. — Не можем оставаться в стороне от того, что творится на русской земле. Родину топчут. Сейчас лучшие люди идут в народ, чтобы поднять его из грязи.
— России нужны герои, — сказал Григорьев. — Нужны новые Желябовы.
— Хотите двинуться по пути Желябова? Прекрасный порыв. Стыдно сейчас прозябать. Читать Добролюбова и Чернышевского и оставаться спокойным — невозможно. Многие жаждут борьбы. Но за что бороться и как? Надо ведь сначала разобраться.
— В одиночку нам не разобраться, — сказал Исаак. — В Казани, говорят, есть разные кружки, а где их искать?
— Говорят, есть кружок и вашей гимназии, — сказал Григорьев.
— Не знаю. Едва ли наши наставники допустят такое послабление. Следят неусыпно.
— Вы просто запираетесь.
Николай откинулся назад, запрокинул голову и защурился, скрывая усмешку. Чтобы сохранить равновесие, он держался обеими руками за колено. И покачивался, не открывая глаз. Не хотелось отталкивать этих простодушных искателей, но не мог же он сразу перед ними открыться и сказать, что да, есть, он сам создал этот маленький кружок, что знает ещё и другой, не гимназический, очень скучный, из которого он недавно вышел, потому что там взяли верх вожаки, жаждущие преклонения, — этих юнцов там задавили бы готовыми догмами.
— Вы боитесь нас? — сказал Григорьев. — Неужели ничего не знаете об этом кружке?
Николай открыл глаза и улыбнулся.
— Друзья, — сказал он, — это уже допрос. Надо осторожнее. Так вы только отпугиваете. И сами себя выдаёте. Исаак меня всё-таки знает, а для вас, Миша, я совсем чужой.
— Мы вам верим.
— Почему?
— Человек с такими глазами не может быть предателем.
— Ну спасибо, что верите. А кружка у нас пег. Вы плохо знаете порядок Первой гимназии. За вами так следят, что нигде не спрячешься. Вот недавно обследовали мою комнату. Классный наставник обыскивал. Исаак знает.
— Да, это возмутительно, — сказал Исаак.
— Хорошо, что не нашли никакой крамолы. Могли бы раздуть дело. Так что давайте, друзья, вести себя умнее. Не ходите с открытым забралом.
На мостовой послышался звонкий цокот, и Николай обернулся.
— Полковник Гангардт, — сказал он.
Реалисты бросились к окну.
Кучер рванул вожжи, вороной конь свернул с мостовой и с разбегу остановился, уронив с удил шматок пены. С пролётки спрыгнул офицер в голубом мундире. Он махнул рукой кучеру и пошёл к воротам.
— Как красиво идёт, дьявол! — сказал Николай. — Не шаг, а совершенство.
— Не походкой ли покорил он нашу хозяйку? — сказал Исаак. — Она просто млеет, когда он подходит целовать ей руку. Тебе не кажется, что Мотя похож на этого полковника?
— А ты уже сопоставил? По-моему, сходство случайное.
— Нет, не случайное. Тут нет ничего случайного. Всё переплелось в этом доме. Хозяин служит полковнику. полковник — хозяйке. И она не остаётся безучастной. Платит любовнику. Тем же, чем муж.
— Ну, зачем так-то уж думать о нашей хозяйке. Считаешь, доносит Гангардту?
— Конечно.
— Чепуха. Не станет она унижаться. Не такова. И полковник не такой. Слишком горд, чтобы самому собирать доносы. Хозяин, не сомневаюсь, действительно служит жандармам, но не с полковником, конечно, имеет дело, а с каким-нибудь ротмистром.
Из гостиной, где, видно, уже сидели гости, донёсся беспорядочный говор, послышался звучный голос полковника.
Николай соскочил с подоконника.
— Весна, — сказал он, — такая весна, такое солнце, а мы сидим.
— Пошли на Казанку, — сказал Миша.
— Идёмте. Куда угодно — на Казанку, на Волгу. Успевайте бродить — насидеться успеете.
Они-то, наверно, ходят ещё свободно, а он второй год взаперти.
Невыносимо тяжёлая ночь, мёртвая, без малейшего признака жизни, без единого звука. Ни шагов надзирателя в коридоре, ни кашля и стона в камерах. Перед утром заключённые иссякают, теряют в муках последние силы и (сном это нельзя назвать) умирают. До подъёма. Он тоже обессилел и начал было забываться, и вдруг этот жуткий толчок изнутри. Может, останавливалось сердце? До чего же хрупка человеческая жизнь! Одно мгновение — и тебя нет.
Читать дальше

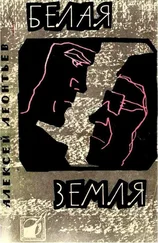




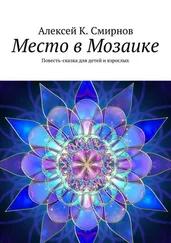

![Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/398597/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame-thumb.webp)