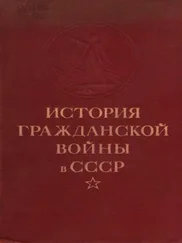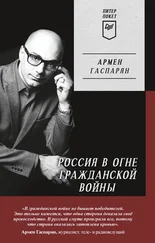У автора здесь — некоторая путаница. Высадка союзников в Одессе произошла в декабре 1918 г., а оставление ими Одессы — в апреле 1919 г., т.-е. оба эти события относятся к более позднему периоду, чем описываемый автором. Сост.
Название «Ледяного похода» получил т. наз. «первый Кубанский поход» добровольческой армии, продолжавшийся со дня «исхода» ее из Ростова н./д. 13 февраля 1918 г. по день возвращения на отдых в Задоны, в станицы Мечетинскую и Егорлыцкую, 13 мая. Названием этим поход обязан переходу 28 марта, когда, наступая на ст. Ново-Дмитриевскую в Кубанской обл., армия, вследствие лившего в тот день и накануне дождя, «шла по сплошным пространствам воды и жидкой грязи», при чем платье и обувь у всех промокли насквозь. К вечеру ударил мороз с ветром, началась снежная пурга, «люди и лошади быстро обросли ледяной корой». К ночи внезапным набегом корниловцы захватили Ново-Дмитриевскую, где и расположились на ночлег. Сост .
К-ой в мирное время был артистом плохого шантана; глядя на него, я часто думал: что привело его в «белую» армию? погоны? случайное офицерство? и мне казалось, что ему совершенно все равно, где служить: у «белых» ли, «красных» ли, — грабить и убивать везде было можно.
Позднее, по приказу командующего, эту доброволицу «Дуську», женщину типа городской проститутки, в одной из кубанских станиц подвергли телесному наказанию за присвоение офицерской формы.
«Архив Русской Революции», т. XI.
Беседа с генералом Деникиным происходила в присутствии еще двух лиц.
Малыми. Ред.
Имелись в виду продолжающиеся попытки красных к наступлению.
После смерти верховного руководителя добровольческой армии М.В. Алексеева генерал А.И. Деникин стал именоваться главнокомандующим сначала добровольческой армией, а затем, после соглашения с донским и кубанским атаманами, состоявшегося 26 декабря 1918 г., — главнокомандующим вооруженными силами юга России.
Защитником полковника Архипова на суде выступал член Государственной Думы Замысловский.
Такой запрос поступил ко мне из управления юстиции по поводу одного из моих товарищей прокурора.
Следует отметить, что главное командование юга России в этот момент было в апогее успехов своих армий.
Позднее они были переименованы в судебно-следственные комиссии.
Генерал А.И. Деникин, «Очерки русской смуты», т, II, стр. 204.
Дело было так названо, во избежание преждевременной огласки.
Следует отметить, что Ставропольская губерния являлась значительным поставщиком на шерстяной рынок мериносовой шерсти.
Донесения агитационного отряда в значительной мере способствовали переводу дикой дивизии из Святокрестовской территории, чаша терпения которой переполнилась от этого буйства.
Припоминаю случай, имевший место, когда я уже был утвержден главнокомандующим вооруженными силами юга России в звании министра юстиции этой территории.
При обходе сыпно-тифозного помещения Новороссийской тюрьмы, глубокий старик протянул мне бумажку, в которой значилось, что он — одесский домовладелец, по фамилии Бронштейн, 71 года.
— По какому делу содержится? — спросил я сопровождавшего меня начальника тюрьмы.
— По подозрению в родстве с Троцким-Бронштейном, ваше высокопревосходительство.
Я удивленно посмотрел на прокурора.
— Почему он до сих пор не освобожден?
— Содержится по распоряжению главнокомандующего, — смутился прокурор.
Я поручил прокурору палаты наблюсти, чтобы подозреваемый в родстве был перемещен в другую больницу, а председателя совета министров Н.М. Мельникова, имевшего в этот день доклад у главнокомандующего, во избежание кривотолков, просил доложить А.И. Деникину непосредственно об этом эпизоде.
По распоряжению главнокомандующего, этот восьмилетний каторжанин вскоре был возвращен родителям.
Такое же положение, если не хуже, отмечено было мною при посещении Екатеринодарской краевой тюрьмы.
Он ошибся только во времени: он умер через несколько часов после посещения мною тюрьмы.
Генерал-лейтенант Н.Е. Никифораки губернаторствовал в Ставрополе около 17 лет. Превзошел его в этом отношении лишь архиепископ Агафодор, на много лет переживший в Ставрополе своего друга, губернатора Никифораки.
Читать дальше
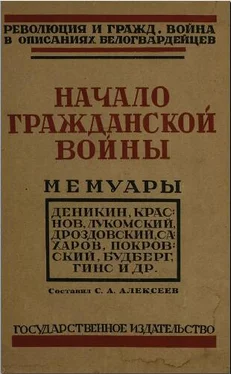
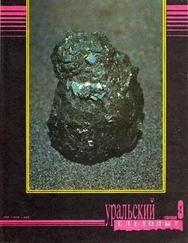


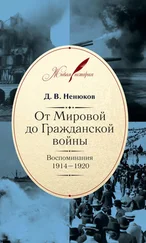


![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-thumb.webp)