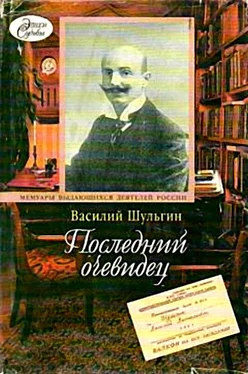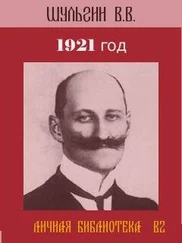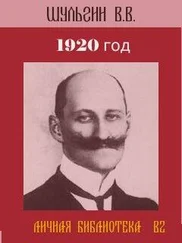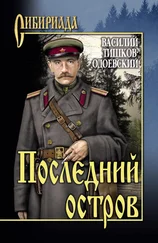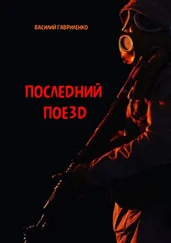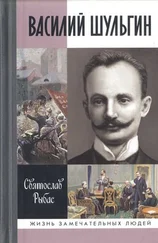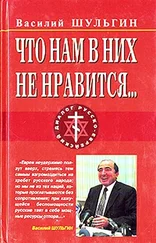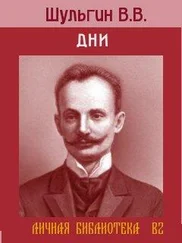Они уже знали, что им будут платить за их службу десять рублей в день. Десять рублей! Это кружило голову беднякам. Ибо те, что кончили школу, знали: если Дума проживет, даст Бог, все пять лет, как ей полагается, то каждый из них получит 18 250 рублей. И станет серый хлебороб не то что каким-нибудь чехом или немцем, а самым настоящим помещиком. Но монахи им, должно быть, объяснили: чтобы стать помещиком через пять лет, надо сейчас поладить с теми, кто уже помещики, с теми, кто живет в гостинице «Рим», с теми, кто будет 6 февраля выбирать в Государственную Думу. Без их помощи ни один хлебороб помещиком не станет.
Так должны были говорить монахи, но они так не говорили.
Когда я увидел архимандрита Виталия, я это понял.
Он сидел в углу большой комнаты в подворье, но не в красном углу, то есть под образами, а в другом, напротив. И произошел конфуз. Я перекрестился не на образа, а на архимандрита, но вышел из положения тем, что подошел к нему под благословение. После этого он пригласил меня сесть на скамью около себя. И, внимательно посмотрев на меня, сказал негромко и очень просто:
— О вас хорошо говорит народ.
Я и обрадовался, и смутился, но ответил:
— Этому я обязан не себе самому, а моему отчиму. Он иногда помогал людям.
— А вы сами?
Он чуть-чуть улыбнулся, смягчая этим строгость вопроса, перешедшего в допрос. Я тоже улыбнулся, и мне было легко ему ответить:
— Вот сейчас хочу помочь.
— Чем?
— С поляками и евреями мы, русские помещики, — я от их лица говорю — не пойдем.
— Похвально. Вам было бы выгодно, вы имели бы большинство.
— Не всегда выгода выгодна. Мы хотим идти с русским народом, которого мы часть. Но я предвижу затруднения.
— Какие?
— Затруднения могут возникнуть при дележе мест.
— Именно?
— Всех мест тринадцать. Надо установить, сколько кому достанется.
— Как же вы о сем мыслите?
— Начну с легкого. Духовенству — одно место, чехам и немцам вместе — тоже, то есть одно место.
— Не возражаю. Остается одиннадцать.
— Остается одиннадцать. Мы думали так: помещикам четыре места, крестьянам семь. Итого одиннадцать.
Я остановился, ожидая ответа. Но ответ последовал не сразу.
Архимандрит, вероятно, думал о двух предметах. Удастся ли уговорить крестьян и можно ли верить помещикам? Не впадут ли они во искушение? Ведь поляки и евреи, вероятно, предложат им более выгодные условия.
А я не то что рассматривал, я силился ощутить истинную внутреннюю сущность архимандрита Виталия.
Худое лицо, впавшие глаза. Он строго постился и спал на голых досках, быть может, на этой деревянной скамье, где я сидел.
Редкая бородка, не стриженная, а потому, что не растет волос. Я не думал тогда, что так же изображают Христа. От этого человека исходило нечто трудно рассказываемое. Он говорил негромко, ставил трезвые вопросы и следил за моей несложной арифметикой, таившей, однако, весьма сложные переживания. Я был равнодействующая стоящих за мной людей. Правильно ли я их учитывал? А архимандрит Виталий как будто бы «что-то» знал, чего я не знал, а может быть, никто не знал. И это единственно важное «что-то» было настоящей сущностью этого человека. А внешность его и слова, которые он негромко произносил, были то неважное, что соединяло его с миром. Так тихо горящая лампадка есть то, что самое важное в келии. А остальное, стены, пол и потолок, скамьи и стол с куском хлеба, на нем лежащим, только неизбежная дань суетному миру.
Простые люди чувствовали благостное «что-то» этого аскета. И шли за ним.
Когда мистические мгновения размышлений, меня посетившие, кончились, архимандрит сказал:
— Мы вам поможем…
Он выразился не точно, потому что «лампадка» стыдлива. Но я понял. Монах хотел сказать:
— Господь вам поможет… — Не только мне. Лампада, излучая свет всем, молится «за всех и за вся».
* * *
В каком-то большом зале мы встретились: крестьяне и помещики. Ну и батюшки, и чехо-немцы тоже.
Крестьяне были не лубочные, не подставные, не «пейзаны» из пасторали. Чистокровные хлеборобы, черная Волынь. Одни в домотканых свитках с самодельными пуговицами и застежками. Другие в кожухах шерстью внутрь. Лица знакомые, незлобные, приветливые.
А Прокопий и другие летописцы VII века повествуют, что они в VI веке нападали на Царьград. Тогда, надо думать, добродушием они не отличались.
Прошло четырнадцать веков, сердца смягчились. Однако люди, в самомнении своем считавшие себя культурными, делали все возможное, чтобы вернуть мирных земледельцев к звериной жизни.
Читать дальше