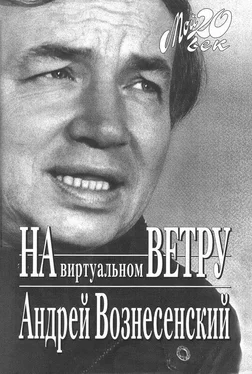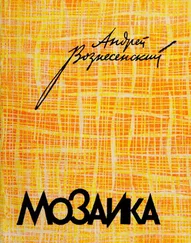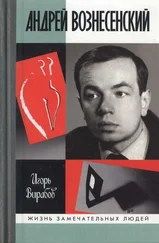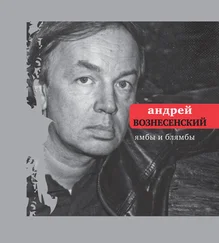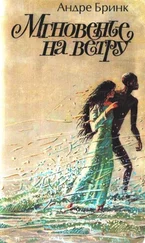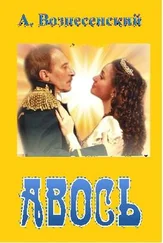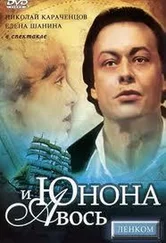Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидал ее, как Прометей, прикованный к телефону.
Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Цветаева и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая.
Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.
«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — Владим Владимыч, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Крученых…» — «А Борис Леонидович?» — «Исключение лишь подтверждает правило».
Асеев придумал мне кличку — Важнощенский, подарил стихи: «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статьей «Как быть с Вознесенским?», направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев.
Будучи в Париже, я раздавал интервью направо и налево. Одно из них попалось Лиле Юрьевне Брик. Она сразу позвонила порадовать Асеева.
— Коленька, у Андрюши такой успех в Париже…
Трубка обрадовалась.
— Тут он в интервью о нашей поэзии рассказывает…
Трубка обрадовалась.
— Имена поэтов перечисляет…
— А меня на каком месте?
— Да нет тут, Коленька, вас вообще…
Асеев очень обиделся. Я-то упоминал его, но, вероятно, журналистка знала имя Пастернака, а об Асееве не слыхала и выкинула. Ну как ему это объяснишь?! Еще пуще обидишь.
Произошел разрыв. Он кричал свистящим шепотом: «Ведь вы визировали это интервью! Таков порядок…» Я не только не визировал, а не помнил, в какой газете это было.
После скандала с Хрущевым его уговорил редактор «Правды», и в «Правде» появился его отклик, где он осуждал поэта, «который знакомую поэтессу ставит рядом с Лермонтовым».
Позднее, наверное соскучившись, он позвонил, но мама бросила трубку. Больше мы не виделись.
Он остался для меня в «Синих гусарах», в «Оксане».
В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.
* * *
Тут в моей рукописи запахло мышами.
Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.
Он был старьевщиком литературы.
Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.
Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетинкой, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыплака. Росточка он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдатаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.
Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки.
В этом была своя поэзия, мне не доступная тогда. Я понял это лишь сейчас, когда по сравнению с моими завалами его комнатушка кажется жилищем аккуратиста.
Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания „Верст“»? — «Отвернитесь», — буркнет. И в пыльное стекло шкафа, словно в зеркало, ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он таскал книги. Его приход считался дурной приметой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу