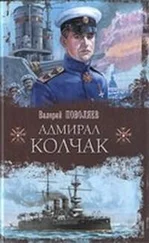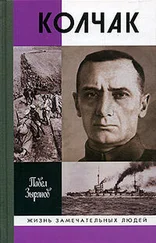Сложно сказать, действительно ли адмирал был настроен столь пессимистически или тут сказался ретроспективный взгляд, знание того, как развивались события далее. Но возможно, что Александр Васильевич воспроизвел свои слова максимально точно, а вывод о печальном и недалеком финале Черноморского флота родился у него спонтанно, под влиянием столичных новостей. Правительство не могло справиться с дикой анархией, развивавшейся в непосредственной близости и угрожавшей самому его, правительства, существованию, – так стоило ли строить какие-либо надежды на то, что процесс умирания государства остановится где-то на полпути и не дойдет до Черного моря?!
Пытаясь лучше понять политическую обстановку, Колчак направился к Родзянко – тому самому «председателю Временного комитета Государственной Думы», который в дни крушения Империи с барабанной самоуверенностью утверждал, что контролирует все происходящее, и призывал командующих флотами подчиниться ему. Теперь Родзянко не нашел ничего лучшего, чем направить адмирала к Г.В.Плеханову, старому марксисту, во время Великой войны бывшему эмигрантом-«оборонцем», а после Февраля вернувшемуся в Россию. Плеханов растерянно объяснил, «что происходит чисто стихийный процесс брожения среди масс, что бороться с ним очень трудно и едва ли партийные группы здесь что-нибудь могут сделать», – а после ухода Колчака рассказывал своим единомышленникам о состоявшейся беседе в довольно юмористическом тоне:
«Он мне очень понравился. Видно, что в своей области молодец. Храбр, энергичен, не глуп. В первые же дни революции стал на ее сторону и сумел сохранить порядок в Черноморском флоте и поладить с матросами. Но в политике – он, видимо, совсем не повинен. Прямо в смущение привел меня своею развязной беззаботностью. Вошел бодро, по-военному, и вдруг говорит: “Счел своим долгом представиться Вам как старейшему представителю партии социалистов-революционеров… ” Войдите в мое положение! Это я-то социалист-революционер! Я попробовал внести поправку: “Благодарю, очень рад. Но позвольте Вам заметить… ” Однако Колчак, не умолкая, отчеканил: “… представителю партии социалистов-революционеров. Я – моряк, партийными программами не интересуюсь. Знаю, что у нас во флоте среди матросов есть две партии: социалистов-революционеров и социал-демократов. Видел их прокламации. В чем разница – не разбираюсь, но предпочитаю социалистов-революционеров, так как они – патриоты. Социал-демократы же не любят отечества, и, кроме того, среди них очень много жидов… ” Я впал в полное недоумение после такого приветствия и с самой любезной кротостью постарался вывести своего собеседника из заблуждения. Сказал ему, что я – не только не социал-революционер, но даже известен как противник этой партии, сломавший немало копий в идейной борьбе с нею… Сказал, что принадлежу именно к нелюбимым им социал-демократам и, несмотря на это – не жид, а русский дворянин и очень люблю свое отечество. Колчак нисколько не смутился. Посмотрел на меня с любопытством, пробормотал что-то вроде: ну, это не важно, и начал рассказывать живо, интересно и умно о Черноморском флоте, о его состоянии и боевых задачах. Очень хорошо рассказывал. Наверное, дельный адмирал. Только уж очень слаб в политике…»
Несмотря на несколько снисходительный тон, рассказ Плеханова представляется чрезвычайно важным для характеристики Колчака. Вряд ли Александр Васильевич испытывал какое-либо расположение к социалистам, осведомленность же об их разделении на социал-демократов и социал-революционеров, как видим, и вовсе считал для себя совершенно излишней роскошью, однако дело было не в этом. Наверное, адмирал смог бы не менее иронично, чем Плеханов, изложить содержание разговора, но уже со своей точки зрения, для которой оттенки программ и количество сломанных копий «в идейной борьбе» безусловно отступали на задний план при виде разверзшейся под ногами пропасти. Теперь спасти Россию могла только горячая и действенная любовь к ней – и в словах Плеханова для Колчака, очевидно, «любви к отечеству» оказывалось достаточно, остальное же безусловно относилось к разряду «ну, это не важно». Однако социалистический патриотизм оказывался бессильным, неспособным, а то и не желающим обуздать анархию, ибо отвлеченные принципы «свободы» и рабское, догматическое преклонение перед «инициативой» или хотя бы «стихийным брожением» пресловутых «масс» становились для него важнее, чем угроза живому национально-государственному организму России.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу