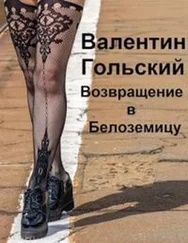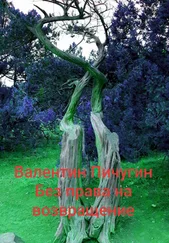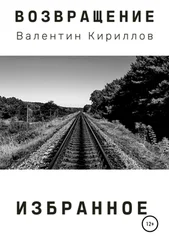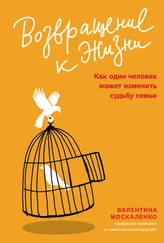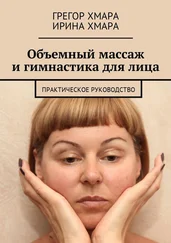Это сказано почти за двадцать лет до первой русской революции. До поражения в войне с Японией…
О состоянии дел в России в ту пору красноречиво (и удивительно актуально!) говорит высказывание другого персонажа воспоминаний «отечественного Цинцинната», генерал-фельдмаршала, участника пленения Шамиля и реформатора русской армии Д. А. Милютина: «Французы подняли гвалт по поводу Панамы. Да у нас такие Панамы случались в каждом министерстве, имевшем доступ к казенному сундуку, и все было и шито и крыто. Даже была в ходу сакраментальная фраза: надо держать высоко честь мундира! И эта честь заключалась не в том, чтобы свернуть мошеннику голову, а в том, чтобы прикрыть его, лишь бы не узнал сосед. Если уж проворовавшийся был особенно противен, его выкидывали вон, но с мундиром, пенсией и знаком беспорочной службы».
…Немирович-Данченко, наконец не был наделен гением Н. Щедрина и Максима Горького, Ф. Достоевского и Л. Толстого. Но его изобразительный талант, тем не менее, безусловен. Его язык временами блистателен и виртуозен, удивительно живописен и точен. Его образы предметны и выразительны: «Тут было темно, только где-то на высоте, словно острие ножа, светилась какая-то щель». «Словно желтая тесьма, взбежала по косогору извилистая тропинка». «Темное знамя дыма над пароходом». Описания динамичны и лаконичны: «Весла блеснули, и лодки прорезали покойную влагу». Сравнения неожиданны и емки: монах засмеялся «густым, жирным, точно маслом смазанным баском». «Белая, без тьмы и свету, ночь окутала острова» — трудно, пожалуй, сказать лучше и изобретательней. Или: «Его глаза были не только без блеска, но и без взгляда». А может ли не запасть в память такая картинка: «За коленом Косьвы — песчаный мысок. От него отошли утесы, а с их высоты к самой воде сбежали пихты — кипарисы сурового края. В их зеленую раму вдвинулась, сверкая золотом только что ободранного чистого свежего леса, большая домовина в два яруса… Окна весело горят. Надвинула железный картуз и тот переблескивается с солнцем. У самой воды пылающая в новом кумаче и желтом шелковом платье яркая баба». Умение играть цветом и светом — вообще сильная черта Немировича-Данченко. А еще он видит предмет и явление в какой-то особой, сложной динамике, неожиданно стереоскопично и доходчиво: «Серая ящерица быстро пробежала по земляному полу галерейки, оставляя за собой извилистый след и как-то широко расставляя лапы». А чего стоят «рыжие, тощие, с лысинами, вечно что-то нюхающие крысы…» Немирович-Данченко десятки раз описывает горные ущелья, водную гладь, леса и лески и каждый раз находит удивительно простые и несхожие, но западающие в душу слова.
Не удивительно, что его путевые очерки имели столь широкий успех. В эпоху, так далекую от кино и телевидения, они позволяли увидеть, открыть страну и страны мира во всем своеобразии красок (многообразии верований, обычаев тоже). Впрочем, позволяют и сегодня…
Немирович-Данченко не был мастером портрета, но у него был глубокий и искренний интерес к человеку. К людям, прежде всего, как он сам сформулировал в названии одной из своих книг, — «бодрым, сильным, смелым». Подобно любимому своему герою — генералу Скобелеву, одному из самых талантливых, «Суворову равному», образованнейшему военачальнику. Он поражал писателя «изумительным прибытком силы», целеустремленностью, «решительностью и способностью к инициативе», безумной, но (как оказалось, и всегда продуманной) храбростью (он часто вызывал огонь на себя, чтобы выявить огневые позиции противника). Безудержно, беспощадно требовательный в строю и в бою, не прощавший трусости, особенно офицеров, он в остальное время был «отцом-командиром», тоже не без расчета: любовь и авторитет приобретаются, говорил Скобелев, «не сразу… И не даром». Тогда «чудеса сделать можно». А он был безмерно почитаем солдатами: за искренность, справедливость, «отзывчивость на чужую нужду и горе. Он никогда не брал своего жалования корпусного командира, оно сплошь шло на добрые дела». В то же время Скобелев дорог Немировичу-Данченко и тем, что, до мозга костей военный, словно созданный для сражений, он, «как русский человек был… не чужд внутреннему разладу». В минуты и часы боя «Скобелев бывал спокоен, решителен и энергичен, он сам шел на смерть и не щадил других, но после боя для него наступали тяжелые дни…» «В триумфаторе просыпался мученик» и «недавний победитель мучился и казнился как преступник от всей этой массы им самой пролитой крови». Полководец был дорог и, пожалуй, близок Немировичу-Данченко своим кредо жизни, высказанным писателю непосредственно: «…Мой символ жизни краток: любовь к отечеству, свобода, наука и славянство». При этом, предупреждает Немирович-Данченко, «он не был славянофилом в узком смысле — это несомненно. Он выходил из рамок этого направления, ему они казались слишком тесны. <���…> Если уж необходима кличка, то он скорее был народником».
Читать дальше
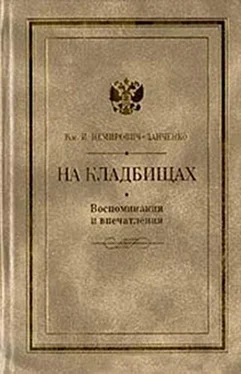
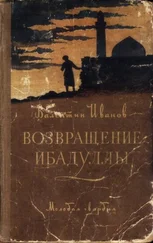
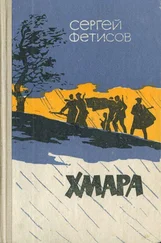

![Валентин Гольский - Возвращение в Белоземицу [СИ]](/books/402077/valentin-golskij-vozvrachenie-v-belozemicu-si-thumb.webp)