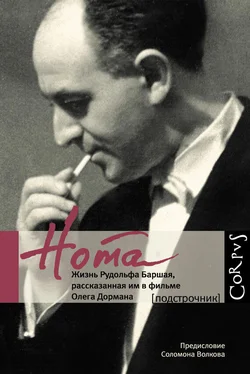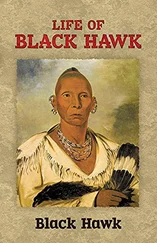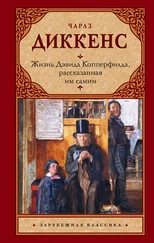Лева с детьми тоже в Америке. [18] Лев Баршай скончался весной 2013 года.
Он пошел по технической части, стал инженером. Они с Володей дружат, не теряют друг друга из виду, чему я очень рад. А Левин сын стал американским летчиком, представляете? Саша-Такеши первый раз приехал сюда, в Рамлинсбург, когда ему было лет четырнадцать. Мы с Леной встречали его на аэродроме, и она сразу узнала его. Он шел в школьной форме, в фуражечке. А теперь Вовка шутит — если надо, чтобы кто-то незнакомый встретил Сашу в аэропорту, он говорит: «Вы его легко узнаете: высокий японец». Он стал доктором. Хирургом. Причем… Я один раз сплоховал. Он поступал в Киотский университет, и Теруко позвонила мне и попросила крупную сумму, которую надо было внести, плату за год. Это была правда крупная сумма, а нас в тот момент как раз обокрали. Знаете кто? Банкир. Бывает тут такое. Сбежал в Америку, и все. И я нигде не мог найти таких денег. Очень переживал, но Теруко отнеслась с пониманием. Потом я посылал, конечно, само собой. А Саша нашел себе временную работу: на подготовительных курсах преподавал высшую математику тем, кто поступает в университет. Сам имея только школьное образование. Такой одаренный парень.
Его пригласили однажды на международный симпозиум по урологии в Утрехт. Позвали со всей семьей, дали им квартиру при университете. Я помог ему купить машину, и они могли часто к нам приезжать. Как-то раз на Рождество приехали все вместе, на несколько дней. Какое это было чудесное Рождество — одно из самых счастливых в моей жизни. Я был особенно рад, страшно доволен тем, как Саша с Леной подружились. Ну, дым стоял коромыслом. Нарядили елочку, мальчик и девочка играли с Леной в прятки, резвились целыми днями. А через некоторое время мне Саша звонит: «Рьючи каждый день говорит: „Хочу обратно к дедушке, хочу с Леной играть“». Они не раз приезжали, и всегда это было очень радостно для нас.
А потом мы были у них в гостях в Японии — я почти каждый год дирижирую Филармоническим оркестром Токио — и присутствовали в храме на церемонии, посвященной Момоко, моей внучке. Она была в кимоно, такая крошечка в кимоно… Я полюбил в Японии одно печенье, окаки оно называется, и Момоко всегда следит, чтобы мне не забывали его привозить.
Музыкой никто из детей не занимается. Впрочем… у Володи скоро родится девочка.
Музыка как явление — это движение души. Это душа выражает таким способом свои движения. Когда Бетховен говорил, что беседует с небесами, он не приукрашивал. Я уверен, что он все это слышал, и его заслуга как гения состоит в том, что сумел записать. Иметь отношение к этому божеству, какое-то право прикоснуться к творениям Бетховена, Баха, Малера, Моцарта, Шуберта — это уже большое счастье. Это можно мне только завидовать. В такие моменты, когда я это чувствую, — нет счастливее меня человека на земле. Но высший миг — когда я чувствую, что мне удалось напасть на след и пройти дальше по пути, которым шел композитор. И даже сейчас, честно говоря, мне кажется, что если я в жизни сделал что-то важное, в чем я могу перед Богом ответить, то это две вещи:
«Искусство фуги» Баха и Десятая Малера. Потому что, должен признаться, во время работы над этими двумя сочинениями я существовал. Вот это была моя жизнь. Я дышал кислородом, воздухом и вот сочинял это самое. Этим я жил. Вот это была моя жизнь. А все остальное было прикладное.
В финале Десятой симфонии Малера есть один аккорд. Ему предшествует страшное сплетение контрапунктических линий, в котором можно услышать железные и огненные звуки ада, увидеть каких-то дьяволов; страшный клубок полифонии, одни голоса противоречат другим — и наконец аккорд разрешает все в ми-бемоль мажор. Но в это время в верхнем голосе, в мелодии, проходит сольбемоль. Получается жутко грубый диссонанс — как будто по тарелке вилкой скоблят. Это оттуда, я уверен, взялся диссонанс у Шостаковича, о котором я вам рассказывал, он генетически оттуда. Сам Малер над этим местом очень много работал, у него сотни разных вариантов. Написал — зачеркнул, написал — зачеркнул. Ну, сотни, просто невероятное что-то. Видно, что он не хотел расставаться с ми-бемоль мажором.
Как поступил Деррик Кук? Очень просто: он этот ми-бемоль-мажорный аккорд, чтобы не портить мелодию, превратил в ми-бемоль-минорный аккорд. И характер сразу стал унылый. Да ми-бемоль минор еще такая унылая тональность, что деваться некуда, жизнь не мила. А этого нельзя. Это очень большое нарушение малеровской философии. Потому что Малер в этом отношении был строгим последователем Баха и Бетховена: чтобы не разрешать в минор. Бах не разрешал в минор, потому что был послушен воле божьей, не протестовал против воли божьей. Бетховен мог протестовать, но как, с какой мощью!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу