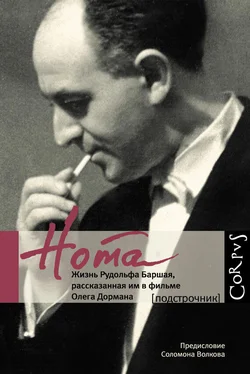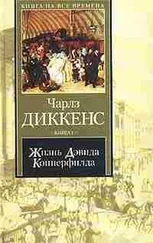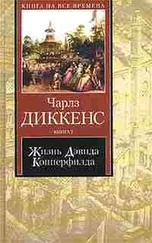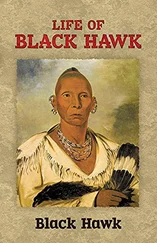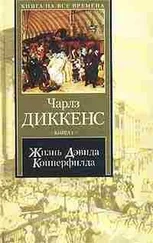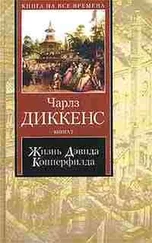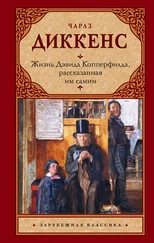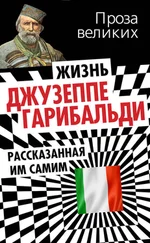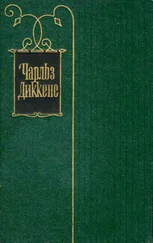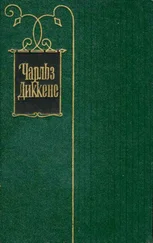Другой случай с додекафонией в СССР теперь кажется смешным. Был у Шостаковича ученик — веселый парень, мотоциклист, душа застолья — Кара Караев. Его прочили на должность главного национального азербайджанского композитора. У армян есть Хачатурян, а у азербайджанцев будет Кара Караев. Прочили его, прочили, а он взял азербайджанскую мелодику да и написал симфонию методом додекафонии. И попросил Московский камерный оркестр ее сыграть. К тому времени мы уже хорошо работали с другими учениками Шостаковича, в частности с Револем Буниным. Собственно, с легкой руки Шостаковича, который очень поддерживал нас, современные советские композиторы и начали писать для Камерного оркестра. Вот написал и Кара Караев. Для исполнения симфонии мы прилетели в Баку. Телефон в моем прекрасном гостиничном номере разрывался: все азербайджанские газеты хотели взять интервью о додекафонической симфонии Кара Караева — и центральные, и местные, и даже «Бакинский рабочий» и «Пионер Азербайджана».
Зал был переполнен. Хорошо одетая публика, цвет интеллигенции, серьезные слушатели, все гордились тем, что Кара Караев написал додекафоническую симфонию.
В конце концов его выдвинули на Ленинскую премию. Как полагается, комитет по премиям в полном составе, включая Фурцеву, пришел на прослушивание. У нас был испытанный прием: если надо преподнести новое сочинение, мы сначала играли симфонию «Ля Пассионе» Гайдна. Так и на этот раз: Гайдн, потом — первая азербайджанская додекафония. После исполнения наступила гробовая тишина. Через некоторое время Фурцева сказала самым нежным из своих голосов — а она была отличная актриса:
«Кара Абульфазович, дорогой мой друг, пожалуйста, вернитесь к нам. Вы писали прежде такие прекрасные вещи. Зачем так далеко ушли? Зачем погрузились в эту проклятую западную додекафонию? Не оставляйте нас, дорогой». Кара Караев был смущен, все растеряны, молча разошлись. Не дать ему Ленинскую премию было нельзя, наверху строго следили, чтобы премия по-братски делилась между братскими народами. И Кара Караеву вручили Ленинскую премию за балет, написанный десять лет тому назад.
Но сполна унизительность цензуры мы ощутили, когда с Московским камерным оркестром начал работать композитор Александр Лазаревич Локшин.
Я не люблю говорить о своем отъезде. Это очень болезненный вопрос для меня. Это незажившая рана до сих пор. Но могу сказать определенно: даже если бы я уехал только для того, чтобы исполнять Локшина, это уже было бы для меня, для моей совести оправданно.
Сегодня мало кто в России знает это имя. За границей — больше, но тоже совершенно недостаточно. Я уверен, что время Локшина придет. Говоря так, я точно повторяю слова, сказанные когда-то Малером о своей музыке. Современники не очень-то ценили собственные сочинения Малера — он был знаменит исключительно как дирижер. Когда он на гастролях в России сыграл свою музыку, русская газета напечатала рецензию, где говорилось, что симфония Малера очень плоха, в ней нет ничего гениального. Речь шла о Пятой. Знаете, кто это написал? Римский-Корсаков. К сожалению. Вторую Малера он называл импровизациями на бумаге: автор, мол, не знает, что у него будет в следующем такте, и вообще обидно за него как за музыканта. А крупнейший дирижер того времени фон Бюлов, друг Вагнера, говорил, что если сочинения Малера — музыка, то, значит, я ничего не понимаю в музыке. И так далее. Бывает.
Когда я впервые сыграл симфонию Локшина «Сонеты Шекспира» в Англии, в Лондоне, с оркестром Би-би-си и замечательным баритоном из Ковент-Гардена сэром Томасом Аленом, на следующий день в «Дейли телеграф» вышла восторженная статья под заголовком «Где этот композитор и что у него есть еще».
Что у него есть еще? Локшин написал одиннадцать симфоний, кантату на «Реквием» Ахматовой и на тексты из православной заупокойной службы, оперу «Три сцены из „Фауста“», множество произведений.
Он был совершенно уникальный и композитор, и человек, и что еще очень важно — великий педагог. Я с полным правом могу назвать его своим учителем. Он, как и Шостакович, был моим учителем по композиции. Более того: всем, что я в музыке умею или только знаю, даже только понаслышке, — всем этим я обязан Локшину. Он очень многое мне объяснил в музыке. Он был необыкновенно эрудирован. Не было такой области человеческого знания или такой книги, которую он бы не читал и которую не мог досконально пересказать и объяснить. Как он говорил, «я прочитал полные собрания сочинений Толстого, Достоевского, Диккенса и Бальзака, но ответов на некоторые вопросы не нашел, так что приходится искать самому».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу