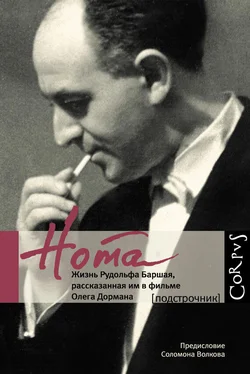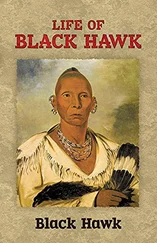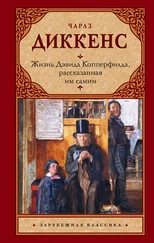Клемперер не собирался быть дирижером, он начинал как пианист, но однажды Макс Рейнхардт ставил оперетту Оффенбаха и предложил Клемпереру продирижировать.
Успех был такой шумный, что с Клемперером захотел познакомиться Малер. Он сразу понял, с кем имеет дело, и рекомендовал его, двадцатилетнего юношу, на пост руководителя оркестра Пражского театра. А потом, уже перед самой смертью, именно с Клемперером готовил премьеру своей Восьмой симфонии и сказал ему на репетиции: «Если после моей смерти что-то будет звучать не так — прошу вас, внесите изменения. Я не только даю вам право — вы обязаны это сделать».
Мусин рассказывал мне, как Клемперер приезжал в Ленинград на гастроли в тридцать шестом году. До того он несколько лет отказывался выступать в СССР в знак протеста против того, что арестовали знакомых ему людей. А приехал, чтобы познакомиться с Четвертой симфонией Шостаковича. Через несколько месяцев после «сумбура вместо музыки». Гликман и Иван Иванович Соллертинский, о котором я еще расскажу, помогли устроить эту встречу, Клемперер пришел домой к Дмитрию Дмитриевичу, и тот сыграл симфонию на рояле. Клемперер был восхищен. Он, правда, попросил Шостаковича сократить число флейт, потому что, говорит, очень трудно на гастролях рассчитывать на шесть хороших флейтистов. На что Д. Д. ответил: «Что написано пером — не вырубишь топором». В отличие от Прокофьева, он исключительно строго относился к своей оркестровке, не позволял ничего менять — и там действительно ничего нельзя изменить. Партитуру он Клемпереру под разными предлогами не дал. Не из-за флейт, конечно. Боялся.
В тот приезд Клемперер дирижировал Первым Бранденбургским концертом Баха и Пятой Бетховена. Мусин мне говорит: «Потрясение от Бранденбургского концерта было такое сильное, что я не мог оставаться в зале, должен был немедленно уйти. Я боялся, что рассеется впечатление. Сидел где-то в темном углу фойе и не мог успокоиться. А потом — шквал аплодисментов, браво, брависсимо. Я пошел в артистическую. Клемперера поздравляют, трясут ему руку, а он говорит: „Поздравлять надо не меня, а Шостаковича, который написал Четвертую симфонию“».
Кумиром Мусина был его первый учитель Николай Андреевич Малько, про которого он мне много рассказывал. Тот поначалу симпатизировал советской власти, но в конце двадцатых годов поехал дирижировать в Чехию да и остался за границей. Очень успешно работал. В Австралии, где Малько жил в последние годы, поставили ему памятник. Представляете, памятник русскому дирижеру в Сиднее. А в Копенгагене, где он дирижировал оркестром Королевской капеллы, Кениглихе Капелла, каждые четыре года проводят конкурс молодых дирижеров его имени. Однажды я репетировал с этим оркестром Восьмую Шостаковича. В антракте подошел пожилой гобоист. Скажите, говорит, маэстро, вы, случайно, не ученик Николая Малько? Я смутился. Говорю: «Нет. Но я ученик его ученика». — «Ну вот. Видите ли, ваш жест так напоминает его жесты! И первое адажио вы ведете так медленно, как только один Малько умел».
Я пошел, нашел телефон и позвонил Мусину. Мне хотелось ему это сказать. Он, конечно, был рад. А позже мне удалось ему переправить воспоминания вдовы Николая Малько, и Илья Александрович занимался их изданием в России, но, кажется, не преуспел.
Кто такой Гилельс, я знал с детских лет. Мало еще что понимал про пианистов и пианизм, но, когда слушал Эмиля Григорьевича по радио, поражался феноменальному звуку. Особенно мне нравилось, как звучит его рояль в верхнем регистре. Верхние ноты — как будто серебряные колокольчики. Невероятное что-то. Потом оказалось, говорить о красоте его звука в приличной компании не принято, потому что и так всем ясно, что такого звука нет ни у кого. Как он его добивался — не понимали. Вероятно, особое строение пальцев, их подушечек. Но кроме того — титаническая работа. Он так развил пальцы, что они стали живыми молоточками. Только вместо металлической основы в каждом молоточке косточка. Эта косточка была какая-то… музыкальная. Мышцы вокруг нее были развиты таким образом, что он пальцами ударял по клавишам, как молоточек рояля бьет по струнам. Я думаю, если бы Гилельс стал скрипачом, он обладал бы такой же красоты звуком на скрипке.
В Москве я ходил на все его концерты. Как он играл «Петрушку» Стравинского этими своими звонкими пальцами! Музыка била как фонтан, живая, радостная, блестящая. И еще сонаты Прокофьева и сонаты Бетховена играл изумительно. У меня вот стоит полное собрание его записей Бетховена, я слушал их не знаю сколько раз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу