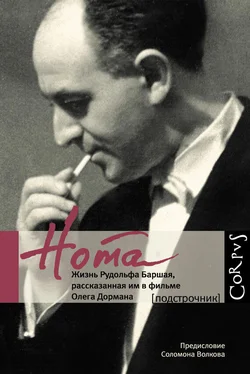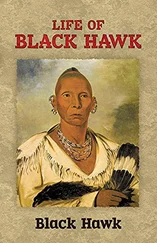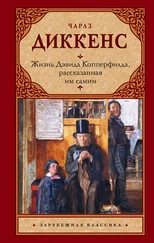На «Пламя Парижа» Сталин приходил несколько раз. А в начале сорок восьмого года посетил оперу «Великая дружба», и вскоре началось страшное.
Я думаю, бацилла желания уехать поселилась во мне сразу же после Постановления о музыке. Это трагически знаменитое постановление партии, в котором били Шостаковича, Прокофьева и Хачатуряна за так называемый формализм. Как над ними издевались, какие были ужасные вещи.
«Правда» писала: товарищи Шостакович и Прокофьев, ваша музыка не нужна народу. В подтверждение приводились письма, подписанные шахтерами, токарями, доярками.
В консерватории было устроено собрание, настоящее средневековое аутодафе, которое продолжалось три полных дня с перерывами на ночь. Какой это был позор, какой страшный абсурд. Профессор Келдыш, известный музыковед, завкафедрой истории русской музыки, говорил, что такие педагоги, как Шостакович, толкают студентов в бездну, учат презирать нашу собственную музыку, классическую музыку, и обожествлять формалистскую. «Вот, товарищи, студент Борис Чайковский не сумел на экзамене перечислить все оперы своего великого однофамильца».
«Прошли те времена, — говорил министр культуры Лебедев, только что назначенный, — когда развитие советской музыки определяли всякие Мадлеры и Хандемиты!»
Гольденвейзер, старик, игравший когда-то Льву Толстому в Ясной Поляне (он любил об этом напоминать по всякому поводу), бывший директор консерватории, классик, которому не было никакой нужды участвовать в этом позоре, но, видимо, хотелось показать свою важность, тоже выступил. Откройте, он говорил, любой квартет Гайдна: в нем больше музыки, чем во всех симфониях Шостаковича, вместе взятых. А что такое сонаты Прокофьева? Ведь они могут навсегда испортить пианисту руки!
Шостакович сидел в последнем ряду. Мы, студенты, — на ярусе. Сверху мы видели, как он каждые десять минут выходит покурить, а потом возвращается на свой стул как на лобное место. Он ни на кого не смотрел — и на него никто не смел взглянуть.
Когда одна дама, преподававшая историю музыки, страшно поносила Прокофьева, мы с ребятами написали записку и передали в президиум: «Скажите, пожалуйста, когда Вы врали: сегодня или в прошлом году на лекции о Прокофьеве?» Она с каменным лицом прочитала и положила в карман.
Поздно вечером я сел в троллейбус, который ходил тогда по улице Герцена, и услышал за спиной разговор двух старушек: «Помнишь, мы выбирали депутата Шебалина? Директором консерватории был. Вывели голубчика на чистую воду: враг оказался. Сочиняет музыку, вредную для народа!»
Незадолго до этого погиб великий Соломон Михоэлс. Теперь известно, что его убили по личному приказу Сталина, гэбэ, или как оно тогда называлось, инсценировало несчастный случай. После собрания Дмитрий Дмитриевич зашел к Талочке, дочке Михоэлса, обнял ее и сказал: «Как я ему завидую».
Был у меня добрый друг, Герман Галынин. Он пришел учиться в консерваторию прямо с фронта. Демобилизовался и явился в солдатских обмотках, в шинели на композиторский факультет, стал учеником Шостаковича. Вскоре вся консерватория знала, что учится новый гений. Его сочинения не оставляли равнодушным никого.
Герман был незаурядным пианистом. Одно время мы вместе жили в общежитии на Трифоновке, возле Рижского вокзала, — не помню, почему мне пришлось временно там поселиться, — и по вечерам еще с одним нашим приятелем играли трио Гайдна. Это совершенно бесподобная музыка, простая, как будто наивная, естественная, как бывает народная музыка. Гайдн писал, что отец его был ремесленником, мастерил колеса, и во время работы напевал немудреные песенки. Эти песенки, пишет, навсегда поселились в моей душе, и я не стеснялся употреблять их в качестве какой-то части моих трио, квартетов, потом симфоний. Мы с Германом решили, что все трио Гайдна сыграем, а их очень много — сто или больше. Действительно сыграли, и каждый вечер у двери комнаты, где мы играли, собирались ребята и слушали.
Германа как ученика Шостаковича тоже стали уничтожать за «формализм». Герман потерял рассудок. Однажды в холод, не надевая пальто и шапки, он пошел на улицу Горького, вошел на Центральный телеграф, посмотрел кругом и громко закричал: «Сталин и Жданов — убийцы!»
Его схватили, конечно, потом посадили в сумасшедший дом. Самое умное, что они могли сделать. Он пробыл там несколько лет. Его жена, верная его Наташа, носила передачи. Однажды вдруг звонок мне в дверь — открываю, она стоит на пороге: Рудик, Германа отпустили, пойдем скорее к нам. Мы встретились, обнялись. Считалось, что его вылечили. Я сказал: «Удивительное дело, как раз сейчас мы с оркестром репетируем твою сюиту. Хочешь, пойдем послушаем?» — «Конечно, конечно хочу.» Пошли, репетиция была в филармонии, на улице Горького. Он послушал, дал какие-то советы, потом пешком пошли обратно домой. Он говорит: «Спасибо тебе, Рудик». — «Да что ты, это спасибо тебе за такую чудесную музыку». — «Знаешь, когда будешь играть, следи, пожалуйста, внимательно, чтобы враги ничего не испортили. Они ведь кругом, кругом, Рудик, только ждут…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу