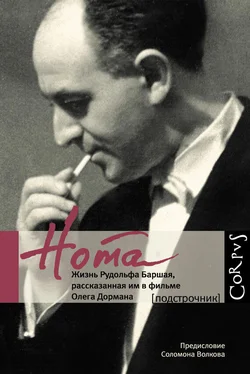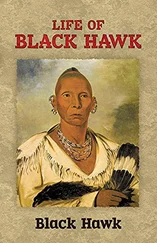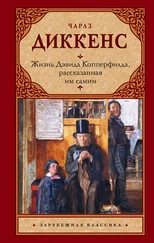После завтрака снова идем в школу и всю дорогу разговариваем с Мишей о Шиллере. Мы тогда бредили Шиллером, мечтали, какую бы музыку мы написали на его стихи. Еще много говорили о Гейне, Гёте, Шумане, очень нас это занимало. Или я расспрашивал Мишу о Столярском. Надо сказать, все вундеркинды тогда мечтали учиться скрипке у Столярского. Он происходил из семьи одесских уличных музыкантов, великий педагог, школу, которую он основал, при его жизни назвали в его честь. Как он говорил, «школа имени мене». По-моему, все лучшие скрипачи того времени начинали у него, а потом уже попадали в Московскую консерваторию. Петр Соломонович каким-то образом чуял талант. Гуляет по Приморскому бульвару, наблюдает за детками, которые там резвятся. Присматривается. Потом подходит к мамочке и говорит: «Мадам, ваш сын должен играть на скрипке». И не ошибался.
Помню, Миша смешно рассказывал, как Столярский однажды ведет урок: «Видишь ли, мальчик, играешь ты хорошо. Интонация чистая, звук хороший. Но ты понятия не имеешь о музыке. Что такое музыка, мальчик, я тебе объяснить не смогу. Но вот представь себе такую сцену — может, что-то почувствуешь. Ты гуляешь по Приморскому бульвару. Навстречу прекрасная барышня. Вы останавливаетесь и смотрите друг на друга. В небе месяц, вокруг цветут каштаны. Вы присаживаетесь на скамейку, ты берешь ее за руку. Представил, так? Ну? Теперь понимаешь, что делать?» Мальчик от смущения краснеет, как помидор.
— Петр Соломонович, чего тут понимать…
— Да нет. На скрипке, ты же собрался играть на скрипке!
Позже мы узнали, что Столярский умер в эвакуации. Как мне рассказывали, от голода. Он и в последние дни не терял чувства юмора, и до нас как прощальный привет дошла его шутка. Еды не было, чая не было, был только эрзац-кофе. И Петр Соломонович говорил жене: «Розочка, свари кофе, чайку попьем!»
А малыши наши идут сзади и тоже о чем-то беседуют.
Как-то раз мы прислушались. Витя говорит: «Борь, когда кончится война, ты в кафе что закажешь?» Боря молчит. Потом отвечает: «Двенадцать пирожных». Витя говорит: «А я мороженое». Какие же они были голодные, наши дети.
Но не жаловались никогда, никогда.
В школе кроме занятий с профессором по специальности были, само собой, обычные, общеобразовательные предметы. Русскую литературу вел Исаак Давыдович Гликман — прекрасный учитель и человек, ближайший друг Шостаковича. Он любил поэзию и считал, что каждый цивилизованный человек должен каждый день выучивать по стихотворению наизусть. Для развития личности и для упражнения ума. Как-то раз мы по очереди читали на уроке кто что выучил. Один мальчик начал: «Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка…» — тут он запнулся, забыл. «…В гору лошадка… лошадка…» — нет, не может вспомнить. Смотрит на нас умоляюще: ну подскажите! Ему шепчут: «Везущая хворосту воз». Он обрадовался и на весь класс: «Лошадка, везущая хворосту хвост!» Все смеялись, Гликман — до слез. «Видите, — говорит, — полное отсутствие познаний в поэзии и способностей к запоминанию, которые вы так блестяще продемонстрировали, требуют от вас ежедневно выучивать по стихотворению. Я не шучу. Это нужно не мне, а вам». Он был прав. А мальчик потом стал концертмейстером альтов в оркестре Мравинского.
У Гликмана тяжело болела жена. Он скрывал от нас свое настроение, но мы видели, как он страдает. Когда она умерла, он через несколько дней пришел в школу, и мы со спины его не узнали: он срезал свои красивые черные волосы. Вскоре Исаак Давыдович куда-то уехал. А когда вернулся, выяснилось, что он ездил в Куйбышев за партитурой Седьмой симфонии Шостаковича. Как известно, Шостакович в осажденном Ленинграде написал Седьмую симфонию. Точнее, там он написал первые части, а потом началась блокада, Шостаковича вывезли в Куйбышев, где он дописал финал. И там же впервые симфония была исполнена, ее премьеру транслировали все радиостанции Советского Союза.
Мы с одноклассниками преклонялись перед музыкой Шостаковича, играли все, что только можно было достать, — а многое было запрещено, в частности «Леди Макбет», «Светлый ручей».
Весной сорок третьего в Ташкенте отмечали восемьдесят лет Ленинградской консерватории, и оркестр под управлением моего будущего учителя в дирижерском искусстве Ильи Александровича Мусина исполнил первую часть Седьмой при огромном стечении публики. Стояла чудовищная жара, зал набит битком, духота, кондиционеров тогда еще не изобрели. Причем собственно концерт начался поздно, потому что сначала читали доклады к юбилею консерватории, как положено во всяком советском учреждении. Все сидели мокрые, дышали ртом. Мусин дирижировал в очках и то и дело одной рукой вытирал со стекол пот. Он придумал такой эффект: когда начинается тема апофеоза, духовые поднялись со своих мест и заиграли ее наизусть, стоя. Это было так сильно, что публика в зале тоже встала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу