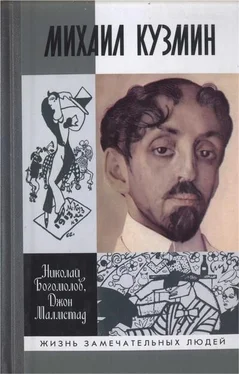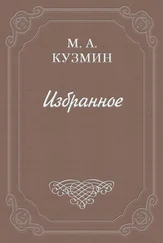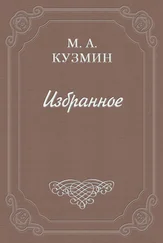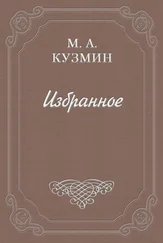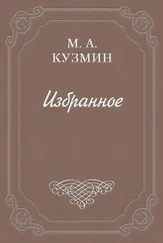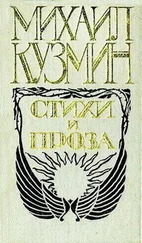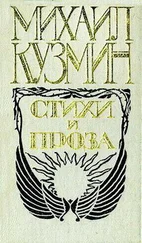В этом отрывке (все письмо гораздо больше) обращает на себя внимание уверенность Чичерина как наставника, знающего, что и как объяснять своему ученику, в чем-то недостаточно образованному, явно уступающему собеседнику в эрудиции и начитанности.
Но сказать, что отношения Кузмина и Чичерина строились только так, было бы сильным преувеличением, а то и просто неправдой. Дело в том, что Чичерин чувствовал перед Кузминым известную робость, ибо тот обладал творческим началом, Чичерину органически чуждым. Пробуя свои силы в литературе и музыке, Чичерин ощущал неполноценность попыток и потому не мог не относиться ко всякому истинному творцу — а Кузмин для него был таким уже с ранних лет — как к существу в известной степени высшему, наделенному особыми качествами.
О литературных попытках Чичерина мы знаем очень мало, но весьма показательно, что даже там, где особого мастерства и не требовалось, он шел по традиционному и накатанному пути. В частности, об этом свидетельствует детально разработанный план оперы «Гармахис и Клеопатра», музыку к которой собирался написать Кузмин. Больше всего этот план напоминает знаменитую пародийную «Вампуку» князя М. Н. Волконского с незабываемым дуэтом, когда герои, сидя на камне, долго-долго поют: «За нами погоня, бежим, спешим!» — после чего не торопясь уходят. На тех же оперных штампах построен и план Чичерина: «Чудные покои… чудная обстановка… чудная вилла…», «На берегу собираются арестованные заговорщики в цепях» и т. д. [58] План опубликован: Кузмин-2006. С. 345, 346.
Воспринимаемая на таком фоне музыка Кузмина была для Чичерина возможностью войти в историю как меценату великого композитора. Отчетливо свидетельствует об этом его письмо, датированное 25 января 1903 года, то есть тем временем, когда Кузмин еще ни разу не выступил в печати (если не считать публикации нот трех романсов), а его музыка ни разу, кажется, не исполнялась в публичных концертах, когда даже не был написан цикл «Тринадцать сонетов» (другое название «Il Canzoniere» [59] Название дано вслед за сонетами Ф. Петрарки.
), с которого началась подлинная литературная биография Кузмина: «…факт тот, что нигде и никогда не была выработана общечеловеческая восприимчивость и общечеловеческое понимание так, как в России, начиная с эпохи дворянской культуры (нашедшей высшее выражение в Пушкине), — и завершение этого есть та глубочайшая идеальность эллинская плюс общечеловечность, которую представил бесподобно Пушкин. И у тебя, когда взять тебя в целом, <���…> тоже общечеловеческая восприимчивость — как и у Пушкина, мир за миром у тебя воплотились; но, как и у Пушкина, это не есть простое блуждание, это имеет завершение, ту глубочайшую пушкинскую идеальность, которую мы находим в твоем „Актеоне“ (на которого молиться можно), и в „Бледном солнце осеннего вечера“, и в „Морской царевне“ — и в „Зимнем лесу“, и летнем „Полдне“. Есть вещи, которые от времени блекнут, есть вещи, которые чем дальше, тем пышнее, великолепнее, неповторимее, божественнее — таков дивный „Актеон“!»
Не исключено, конечно, что преувеличенность похвал, желание поставить Кузмина в один ряд с Пушкиным были продиктованы стремлением Чичерина как-то поддержать своего друга, обладавшего склонностью часто впадать в меланхолию и сомневаться в собственных силах; но все-таки даже такое предположение не может отменить чрезвычайно высокого мнения Чичерина о творчестве (пока что только музыкальном) Кузмина.
Таким образом, дружба была не слишком похожа на отношения учителя и ученика: учитель сам высоко оценивал многое из того, что ученик преподносил ему как не заслуживающее особого внимания. Следует также отметить, что взаимоотношения с Чичериным были не только длительными и теплыми, случались и периоды охлаждения, о которых из переписки узнать нельзя, но по письмам к другим людям они прослеживаются. В письме однокласснику Сергею Матвеевскому Кузмин рассказывает о том, какое впечатление произвело на него близкое общение с Чичериным летом 1891 года: «…я более и более замечаю, что все то, что он так логично, убедительно и даже красноречиво доказывает, не составляет для него сердечных, субъективных убеждений, а он сам их себе привязывает, считая это удобным. <���…> Он „все признает, все понимает, всем может восторгаться, все допускает“. А в сущности он ничего не признает, ничего не понимает, ничем не может восторгаться, а его терпимость имеет целью <���с> помощью пустых фраз привести всех к его нетерпимости. Ядро этого составляет пустое фразерство и педантизм. И так во всем, во всем!» [60] Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века. С. 563.
И потом, на протяжении примерно пятнадцати лет, Кузмин поддерживал с Чичериным отношения, которые внешне казались идиллическими, но на деле сводились к обрисованным в письме тому же однокласснику: «Пока я все принимал за чистую монету, были сердечные отношения; мало-помалу глаза мои стали открываться, отношения охлаждаться; теперь совсем исчезли; я не говорю приятельские отношения, а дружеские, когда открываешь всю душу, все мысли, все желания, все планы, встречаешь живое участие и бодро идешь вперед рука об руку. Я думал, что такие отношения возможны, а они невозможны. Что ж? тем лучше: лучший друг — сам я. Приятельским же отношениям нет причины прекращаться: я буду ходить к ним, он — ко мне, будет развивать мой невежественный ум, будет давать мне читать произведения своего дядюшки, которые валяются у меня под столом, ходить на русские концерты [61] Имеются в виду так называемые Беляевские концерты, то есть «Русские симфонические концерты», учрежденные музыкальным критиком М. П. Беляевым. Кузмин часто посещал их вместе с Чичериным.
, доказывать с жаром разные софизмы, патетически делать вид, что восторгается произведениями искусства» [62] Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века. С. 563–564.
.
Читать дальше