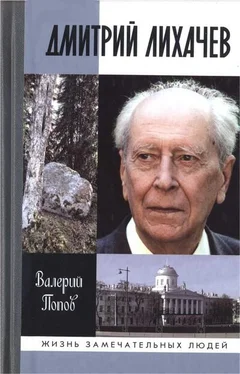Когда Гранин спросил Лихачева: «Какой главный итог вашей деятельности?» — тот ответил: «Возрождение интереса к семи векам древнерусской литературы».
…И при всех успехах, наградах и званиях смута вокруг Лихачева не утихала, а наоборот — разрасталась. Может быть, как раз потому, что успехи его казались кому-то чрезмерными? Смута эта есть и сейчас. Узнав, что я собираюсь писать книгу о Лихачеве, мои друзья-филологи прореагировали почти одинаково:
— Да ты что?!
— А что?
— Пропадешь!
— Почему?
— Да ты не представляешь, сколько разных групп, даже противоположных, считают себя «наследниками» Лихачева! Сколько у него до сих пор завистников и врагов!
— У Лихачева? Врагов? Через двенадцать лет после его смерти?! Чем же он им насолил?
— Чем человек успешнее — тем больше завистников! Съедят тебя! Или скажут — «не допочтил», или наоборот, «приукрасил»! Все знают, как надо — и к Лихачеву не подпускают.
— …Ладно. Пусть занимаются интригами, а я — напишу всё, как было!
— Ты не представляешь, сколько «подводных камней». Одна история с Зиминым чего стоит! Осторожней будь!
Про Зимина я уже слышал. То, что произошло с Зиминым — до сих пор «на слуху» и часто вспоминается как дело не очень ясное: мол, увитый лаврами, властолюбивый Лихачев убрал талантливого соперника не совсем корректными методами. Правда, разговоры эти идут не от профессионалов, а в основном от «сочувствующих», которым всегда лучше видно со стороны, как правильно было нужно сделать.
Лихачев ретроградом не был. Скорее — он был просвещенным консерватором. Но и «умеренный консерватизм» уже многих раздражал. «Новаторам» хочется крайностей, ведь именно только в крайностях тебя и заметят, ибо все остальное уже занято людьми, сделавшими что-то настоящее.
Прежде на Лихачева все больше нападали сверху, угнетали власти. И вдруг вспыхнула «внутренняя война» — на него напали «свои». Его, в сущности, обвиняли в том же, что и всегда — в излишней увлеченности, субъективности. Но теперь еще и в том, что он «субъективно» подыгрывал властям, создал вокруг «Слова о полку Игореве» некий фальшивый «патриотический апофеоз». Лихачев вполне лояльно относился к тем изыскам науки, которые он сам не разделял. Но времена менялись, приходили новые люди — и им казалось, что Лихачев «загораживает дорогу». Его «величие», непререкаемость стали кое-кого раздражать: мол, что он сделал для науки, кроме прославления старого, созданного давно и не им? Почему же он — везде, почему всюду — лишь «Лихачев, Лихачев»? Почему именно он, консерватор, стал символом всей современной культуры? И удар был нанесен по основной его «базе» — древнерусской литературе, которой он создал такую славу!., а заодно и себе, добавят завистники.
— А так ли уж безупречна созданная им картина? — заговорили оппоненты. — Может, эта «картина» — подделка?!
Для объективного изучения этого конфликта мне необходимо было пойти в Пушкинский Дом. Там, в Отделе древнерусской литературы, где уже 12 лет как нет Лихачева, до сих пор идет изучение драматической истории, связанной с Зиминым, главным противником Лихачева в вопросе о «Слове». Сотрудница отдела Л. В. Соколова подарила мне огромную, почти восьмисотстраничную книгу, содержащую полную и объективную историю гипотезы Зимина и ее обсуждения в научных кругах. Книга называется «История спора о подлинности „Слова о полку Игореве“». Л. В. Соколова, как указано под обложкой, была составителем книги, писала вступительную статью, готовила тексты и комментарии. Ответственным редактором книги была доктор филологических наук Н. В. Понырко, нынешний руководитель Отдела древнерусской литературы. Рецензировали книгу доктор исторических наук М. Б. Свердлов и доктор филологических наук М. В. Рождественская.
Книга эта не только объективно представляет историю обсуждения версии Зимина, но и точно рисует картину жизни науки и общества в те годы.
Версия о том, что «Слово о полку Игореве», которое Лихачев относил к XII веку, на самом деле «подделанная древность», стилизация, существовала уже давно. Скептики уверяли, что «Слово» всего лишь подделка, выполненная лишь в XVIII веке архимандритом Спасо-Ярославского монастыря Иоилем (Быковским) по заказу Екатерины II для подъема патриотизма, поддержки ее наступательной, или, иначе сказать, захватнической внешней политики.
То, что рукопись «Слова» находилась в собрании известного коллекционера древних рукописей графа А. И. Мусина-Пушкина, тоже вызывало некоторые сомнения в ее подлинности, поскольку Мусин-Пушкин был страстный, но не всегда строгий коллекционер. Версия, что рукопись сгорела в 1812 году, во время нашествия Наполеона на Москву и знаменитого пожара, тоже подвергалась сомнениям. Скептики утверждали, что там, где должна была находиться рукопись, пожара на самом деле не было, и «подлинник» был уничтожен специально, чтобы дальше было уже невозможно разоблачить подделку. Сохранились лишь более поздние издания «Слова». В 1960-е годы, когда пересмотру подверглось все, новаторы-филологи обратили свои критические взгляды на многострадальное «Слово о полку Игореве».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу