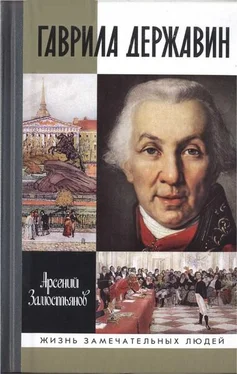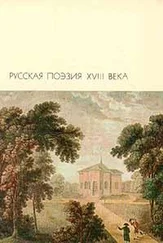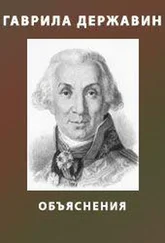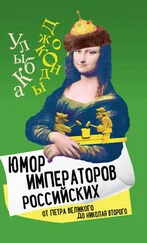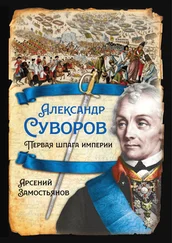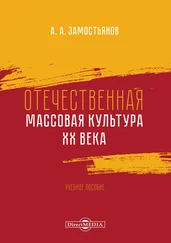Для Владимира Солоухина, которого изумляли богоискательские прозрения старорежимного поэта.
Для Иосифа Бродского, который не только ставил Державина выше Пушкина, но и попытался повторить (почему-то не вполне точно) форму «Снигиря» в оде «На смерть Жукова». Тут, конечно, важен не только прихотливый рисунок строфы, но и тема. Правда, Державин был другом Суворова, а Бродский мог судить о Жукове по слухам и пересудам. Бродский не был посвящён в тайны кремлёвского двора, но эффектно имитировал образ всезнающего придворного поэта. Нобелевского лауреата вряд ли устраивали политические воззрения действительного тайного советника, восхищал его державинский стих — непричёсанный, порывистый и вместе с тем имперский, монументальный.
Словом, поэты Державина не забывали никогда: к нему в XX веке в стихах обращались Мандельштам, Северянин, Вс. Рождественский, Шенгели, Антокольский, Самойлов, Чухонцев, Вознесенский, Минералов, Новиков, Евтушенко, Кибиров, Кушнер…
Ревизия так называемых «авторитарных ценностей», проходящая в нашем обществе в последние полтора десятилетия, коснулась и истории литературы — едва ли не в первую очередь. Нынче литература перестала интересовать исследователей в перспективе служения государству, народу, прогрессу. При этом подчас игнорируется или априорно признаётся недостойной серьёзного исследования социальная составляющая творчества — а ведь это один из самых цветущих садов русской литературы! Обделяет себя тот, кто не замечает глубинной связи с государственной идеологией русской литературы XVIII века, когда в поэзии господствовала не идея свободы , а идея светского просвещения , то есть посильного служения поэзии на благо государства и общества.
Этот принцип был ключевым для мировоззрения многих литераторов того времени, и если сейчас кому-то эта эстетика кажется ущербной, всё равно она заслуживает столь же внимательного изучения, как и поэтическое творчество её апологетов. Необходимым наполнением поэзии был образ героя, служащий читателям примером различных добродетелей, иерархия которых диктовалась и авторским стилем того или иного поэта, и исторической целесообразностью. Необходимо добавить, что сложившаяся в то время национальная, а по-русски говоря — всенародная идея, вобравшая в себя, кроме литературных, целый ряд иных образов церковного и светского происхождения, способствовала утверждению в России XVIII века великой культуры, науки, армии; развитию промышленности и сельского хозяйства. Образы героев в поэзии, по выражению Д. Д. Благого, воплощали «национально-исторический подвиг». Национальный герой, отражение государственной идеологии в поэзии, историзм русской поэзии — вот позиции, интересующие нас с течением времени всё сильнее. И потому без Державина (как и без Суворова, Потёмкина, Кутузова) нам никуда.
Не до Державина было в двадцатые годы XX века. Почему-то идеологи первых лет советской власти к событиям прошлых веков относились с мерками XX века. А Державин был бесконечно далёк от революционного класса. Да и не было у нас в XVIII веке массового пролетариата! И всё-таки в 1933 году именно с Державина началась одна из лучших советских книжных серий — «Библиотека поэта», созданная по инициативе А. М. Горького. Предисловие (несколько настороженное) Ивана Виноградова, подготовка текстов Григория Гуковского — лучшие филологические умы открыли Державина читателю тридцатых годов.
Державина изучали в школе — в особенности «Властителям и судиям». Подчёркивалось всё вольнодумное, дерзновенное, что было у него. «Державин — бич вельмож» был актуален в тридцатые годы. А в предвоенное время по-новому зазвучали батальные гимны славных дедовских времён. Всенародным героем снова стал Суворов. В 1937 году широко отмечалось 125-летие Отечественной войны 1812 года, не говоря уже о столетии дуэли А. С. Пушкина…
К литературной классике стали относиться почтительно, как никогда. Только грустно, что казанский памятник великому поэту не уцелел — его восстановят уже в наше время.
В 1943 году, как водится, на государственном уровне отмечали юбилей Державина — 200 лет. Патриотическая, батальная героика Державина в те дни зазвучала и в Москве, и в блокадном Ленинграде, в десятках университетов и педагогических институтах по всей стране — начиная с зала Чайковского, в котором торжественный вечер открыл Александр Фадеев.
Красная армия сражалась с врагом под Курском — и по-новому звучали старинные стихи:
Читать дальше