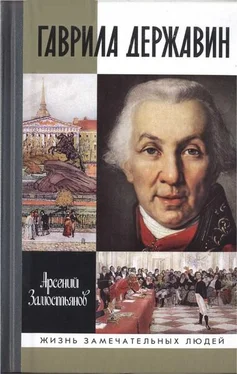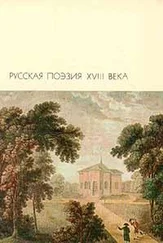Державин не знал подобных споров. Уж он бы воспел Муравьёва без сомнений! В его времена казалось, что вся страна охвачена порывом экспансии, трудами на укрепление империи. Обстановка восторга и жертвенности, сверхусилий и маршей. Мешали только трусы и штатские чистоплюи. Мешали масоны (некоторые, особо ретивые) и шпионы — но как же без них. Но были и у нас свои шпионы.
О русофобии Державин знал — в начале XIX века это слово писали с двумя «с»: руссофобия, а в остальном всё было так же, как в XX или нашем XXI веке. Но то была русофобия международная. Неудивительно, что в Париже и Лондоне побаивались Россию — и со страху создавали образ огромной варварской державы, которая нависла над утончённой цивилизацией. Орды Аттилы, пришедшие с Востока, — отличная историческая аналогия.
В 1812-м Державин с тревогой расслышал топот «пятой колонны» — шаги звучали издалека. Но в 1860-е годы русские прогрессисты перещеголяли западных русофобов. На сцену вышло так называемое непоротое поколение — те, кто был воспитан через много лет после указа Петра Третьего «О вольности дворянства». Они сперва учились писать по-французски, а по-русски — как придётся. Некоторые уже и думали по-французски. Почти все они оказались пленниками моды — а Россия из моды вышла. Державин с ужасом узнавал, что многие русские дворяне — самые рафинированные, самые прогрессивные — восхищаются Бонапартом. Над интересами империи, которым Державин посвятил жизнь, они высокомерно посмеиваются. Космополитизм всегда нарциссичен, в его основе — снобизм по отношению к банальным идеалам большинства, к общепринятым нравам. Мы редко говорим о «феодальном космополитизме», с которым бескомпромиссно боролся первый русский император. Сейчас таких людей называют «креативным классом», во времена Державина в ходу были другие иноязычные словечки.
А в Европе продолжалась война всех против всех, в которой Россия играла ключевую роль.
На склоне лет Державин посвятил Ивану Дмитриеву надпись к портрету — по существу, эпиграмму:
Поэзия, честь, ум
Его были душою;
Юстиция, блеск, шум
Двора — судьбы игрою.
Нисколько не удивительно, что придирчивый к качествам администраторов Державин не верил в управленческие таланты мягкотелого Дмитриева. Нужно учитывать и глубинный пласт этой поэтической формулы: Державин примеривал судьбу Дмитриева к собственному поприщу, размышлял о взаимном влиянии политики и творчества. Сам же Дмитриев за десять лет до державинской «надписи к портрету» написал:
Державин в сих чертах блистает;
Потребно ли здесь больше слов
Для тех, которых восхищает
Честь, правда и язык богов?
Он равнялся на Державина, на державинскую принципиальность, на «честь и правдолюбие» ревнителя законов. Проштудировав Гоббса и Монтескьё, Ломоносова и Вольтера, Дмитриев уверился: для утверждения просвещённой монархии необходима стройная и исправно работающая правовая система. Эта вера и была идеологией Дмитриева.
Злонравных чиновников и отпетых взяточников на рубеже XVIII–XIX веков насчитывалось, конечно, меньше, чем в наше время. Управленческая система самодержавной Российской империи, как ни странно, была менее громоздкой, чем в наш век передовых технологий, которые, несомненно, должны бы упростить работу администратора. И всё-таки уже тогда (да и в гораздо более ранние времена!) нечистоплотность управленцев воспринималась как бич и позор Отечества. Не случайно именно к тем временам относится комедия Василия Капниста «Ябеда», в которой пьяные судьи распевают бессмертные куплеты («Бери, большой тут нет науки…»), — увы, они во все времена воспринимаются как смело актуальные. Иван Иванович Дмитриев мог сполна оценить подтексты такой сатиры.
Родился будущий министр юстиции в селе Богородском Сызранского уезда Симбирской губернии, в родовом имении. Дыхание истории он прочувствовал в детстве, когда семья Дмитриевых вынуждена была переехать в Москву, спасаясь от пугачёвщины. Так судьбы Державина и Дмитриева пересеклись впервые — правда, без непосредственного знакомства. Гаврила Романович в те дни гонялся за Емелькой, болел, надеялся отличиться.
К тому времени Иван успел приобщиться к наукам и искусствам в благородных пансионах Казани и Симбирска. Учился он прилежно, любил поэзию и, если верить его мемуарам, одним из первых узнал и полюбил поэзию Державина — не ведая фамилии автора. Это случилось до повсеместной державинской славы, до «Фелицы». У Читалагайских од немного поклонников — тем ценнее признание Дмитриева. «К удивлению, должно заметить, что ни в обществах, ни даже в журналах того времени не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. Малое только число словесников — друзей Державина — чувствовали всю их цену. Известность его началась не прежде, как после первой оды „К Фелице“. Наконец, я узнал об имени прельстившего меня поэта; узнал и самого его лично, но только глядывал на него издали во дворце с чувством удовольствия и глубокого уважения. Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним в знакомство», — вспоминал Иван Иванович.
Читать дальше