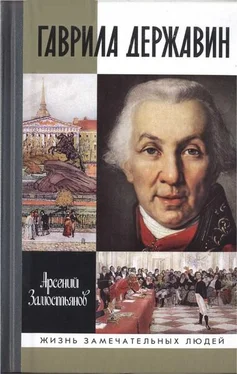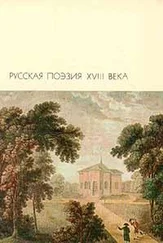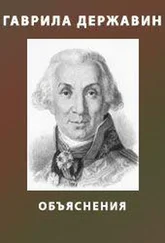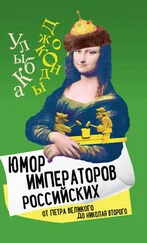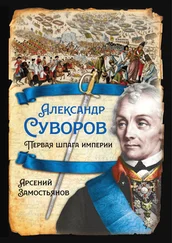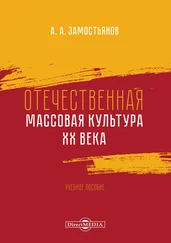Державин чувствовал себя монументом на главном литературном перекрёстке. Пожалуй, он заблуждался, живая литература рождалась не на пышных заседаниях, но его почитали как патриарха — и это подслащивало дни отставки. Он да ещё Крылов — вот два столпа «Беседы», которых лихие супостаты — арзамасцы — старались не задевать. О значении Державина для этой академии расскажет один факт: после смерти Гаврилы Романовича заседания «Беседы» не возобновились, несмотря на рост административных возможностей Шишкова.
Не обходилось без конфликтов. Державин призывал вступить в «Беседу» Николая Гнедича — тот сказался больным. Гаврила Романович настойчиво повторял приглашение — по этим письмам ясно, что именно ценил Державин в «Беседе»: «…вы познакомитесь с первыми людьми в империи и нигде лучше талантов своих открыть не можете».
Гнедич, наконец, разобиделся, прочитав в приглашении, что его назвали «сотрудником», а не действительным членом. Он ответил Державину резким письмом. Но через некоторое время примирился с «Беседой»…
Тут в русской литературе возникает новый заметный автор, почётный член «Беседы», посещавший ещё литературные субботы, — Владислав Озеров. Свою первую знаменитую трагедию — «Эдип в Афинах» — Озеров посвящает Державину. «Посвящая Вам сию трагедию, не приношу моего дара тем достоинствам, по коим возведены Вы были на высокие степени государственные. Министры и правители подлежат суждению историка, который в тишине и молчании кабинета отважною рукою срывает завесу, опущенную на происшествия, и, не утомляясь, размеряет исполинские шаги превосходных умов и успешное ползание хитрых и пронырливых. — Наука нравственная! Подобная той математической науке, о которой спорили Лейбниц и Невтон и по которой исчисляются величина и течение отдалённейших небесных светил и частицы самого мелкого насекомого; исчисление беспредельно великих и беспредельно малых количеств…» — гласило пышное посвящение, которое, однако, Озеров редактировал по мере разочарования в Державине.
Гавриле Романовичу многое не нравилось в Озерове. Трудно было простить его молодость, его успех у публики и — что страшнее — у государя. В «Эдипе» видели многозначительный намёк на отцеубийство, но Александр подарил драматургу и некоторым актёрам по перстню. Нашлись и идейные различия.
Дворянская гордость, феодальная независимость от государства, личная честь, которая важнее служебной, — вот идеалы Озерова. Не новая линия! В эту сторону клонил Сумароков. А бояре, перемётывавшиеся от русского царя к польскому королю, от Шуйского к Тушинскому вору, — разве не были они сторонниками феодальной независимости? У Державина были иные идеалы. Дворянство должно служить! И только усердная служба даёт право влиять на государство и на государя. Державин видел, к чему шляхетская демократия привела Речь Посполитую. А французские бедствия разве не с дворянских расхлябанных мечтаний начались? «Как жаль, что во Франции не нашлось дворянства» — так прокомментировал Суворов казнь короля Людовика.
А ведь там не нашлось именно служилого дворянства… Салонного и вольнолюбивого, досужего и рафинированного было сколько угодно. А вот самодержавной дисциплины не было. А великие империи рождаются и крепнут, когда государственная дисциплина стоит выше личного самолюбия.
Державин когда-то написал записку «О возмущениях и бунтах»: «Многочисленное дворянство приводит в скудость государство, многочисленное духовенство изнуряет державу. Сии два сословия пожирают существеннейшую часть всего государства, то есть народ, бдящий и трудящийся, между тем как другая часть дремлет, переваривает пищу и занимается разве тогда, когда настоит необходимое дело заняться утехами своими». Неожиданно резкий вывод ершистого правдолюба! Державин чувствовал, что наследники Петра разбазарили его наследие по части воспитания дворянства как истинной гвардии народа. Служба стала необязательной, высокие чины представителям родовитых семейств доставались без напряжения. Начался длительный процесс превращения дворянства в очаровательную ненужность, в архитектурное излишество (сейчас этот путь, увы, повторяет интеллигенция). И всё-таки Державин верил, что дворянство ещё можно возродить. Оно действительно было опорой трона, а значит — залогом стабильности и «возлюбленной тишины» в стране. Внутренние противоречия, конечно, подчас взрывали эту тишину — но не так часто, как это хотелось советским историкам, которые преувеличивали остроту классовой борьбы. Они преувеличивали, а мы то и дело преуменьшаем.
Читать дальше