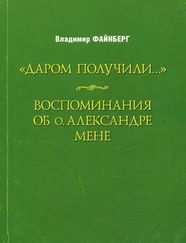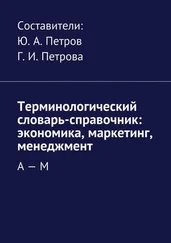Вспоминается заключительная сцена из фильма «Покаяние», в которой пожилая женщина спрашивает, ведёт ли эта улица к храму. Меня тогда очень насторожила прямой лживостью эта сцена — словно в предчувствии того, что произойдёт на дороге к Храму через несколько лет. Во–первых, старые люди не могут не знать, что все улицы старых городов стекаются к храму, во–вторых старуху играла актриса весьма процветавшая при Сталине. И для меня эта маленькая сцена спроецировалась на весь фильм, на духовное состояние нынешнего общества в целом. И я не поверила в такое Покаяние.
Чудовищным знаком того, что мы — вне покаяния и не преображены внутренне — убийство о. Александра на пути к Храму.
И ещё одно суждение, мысль, чувство, которые преследуют меня после его мученической смерти — для многих я знаю, такой конец о. Александра — естественное завершение избранного им крестного пути, еше один очевидный аргумент его избранности и святости. Для меня все происшедшее — леденящий ужас, помрачение света, одоление злыми силами добрых начал. Думается, что такой конец о. Александра не может и не должен служить аргументом подлинности его жизни и личности в целом. Мне кажется, что вообще Россия излишне увлечена «мученическим» аргументом причастности к истине. Поэтому хочется рассказать об о. Александре, о Саше, милом дорогом Саше то, что являло в нём, на мой взгляд, столп и утверждение истины.
Саша появился в моём доме в середине 60–х годов. В зимний воскресный вечер его привёл после совместной лыжной прогулки мой друг Г. С. Померанц. Саша был раскрасневшийся от мороза, бодрый, в вязаном, ручной работы, с оленями на груди, большом уютном свитере, с удовольствием пил горячий чай и был удивительно прост и естественен. Я все твержу, вспоминая тот далёкий зимний вечер, блоковскую строчку: «Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне…» — именно таким светлым и бодрым вошёл в круг моих друзей о. Александр.
Много раз я бывала в Пушкино, на службе — и каждый раз меня поражало, что о. Александр всегда исполняет все на самом высоком эмоциональном и духовном подъёме. В церкви я оказывалась и в будние дни, когда прихожан было совсем немного, только местные старушки, но о. Александр неизменно совершал церковную службу во всей её полноте. Восхищала красота, абсолютная законченность его ритуальных жестов, значительность и гармоничность произнесения молитвенного текста. Много раз я видела, и как он творил обряд отпевания: именно о. Александр провожал многих представителей московской интеллигенции, уходящих в последний путь.
Несколько лет подряд я бывала у о. Александра в церкви в середине апреля — в день памяти скоропостижно скончавшейся (от саркомы в 16 лет) внучки моего учителя и большого друга Е. А. Некрасовой. Я видела, как о. Александр, крестный отец Маши, и родителям, и бабушке давал силы жить, то есть понять и принять смерть любимого человека. Он мало говорил, всем своим существом разделял горе, но побывав с о. Александром вместе на панихиде, за трапезой, потихоньку нестерпимая боль начинала отступать, жизнь обретала смысл.
Сама имея детей, потом внуков, старую больную мать и много работая, я встречалась с о. Александром не очень часто, увы, чаще на похоронах. Но дружескую связь с ним чувствовала постоянно — то кто‑нибудь приносил свою работу по рекомендации Саши, то кто‑то из знакомых звонил и передавал от него привет и добрые слова… Так, он очень поддерживал (но, увы, издание ещё не состоялось) перевод книги А. Швейцера «Мистицизм Апостола Павла». Как передавал переводчик, о. Александр сказал: «Обратитесь к Жене Завадской, скажите что я рекомендую вашу работу, она сделает всё, что от неё зависит». Такая уверенность в друге — и счастье, и честь. Могу сказать, что и мне приходилось не раз почти в тех же словах говорить об о. Александре: «Иди к Саше, скажи, от меня, он непременно поможет».
Всякий, кто был рядом с о. Александром, был для меня «свой» человек, достойный доверия и открытого общения с ним. А времена те были брежневские, и все мы диссидентствовали, так что знаки «свой» или «чужой» были очень существенны. О. Александр подарил мне двух замечательных друзей — Женю Рашковского и Женю Барабанова — вместе мы составляли троицу Евгениев: дружба наша проверена, что называется, в пограничных ситуациях обысков и гонений.
Особую область моей дружбы с о. Александром составляли наши научные занятия. Включение о. Александром православия в контекст мировой религиозно–философской культуры, заставило его при написании книг углублённо заняться и Востоком. И вот, что меня поражало и радовало в этой его работе — он никогда не выспрашивал (как, увы, делают многие) поверхностные сведения, о. Александр разговаривал на специальные темы о восточных религиозных системах только после того, как сам изучил эти вопросы. Удивительные страницы написаны им о китайской религии и философии. Мне, как специалисту, хочется рассказать об этом подробнее.
Читать дальше