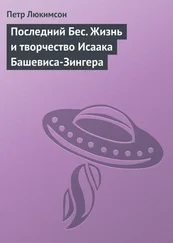Почти ежедневно Борис бывал в Проезде МХАТа, где я, в то время слушатель Военной академии Фрунзе, снимал комнатку. Приходил Борис, когда я еще был в Академии. В ожидании моего возвращения общался с Ирой и Наташей, хозяйскими дочерьми. С тех дней началась их многолетняя дружба.
Я возвращался, и мы по давней, еще с юношеских лет, традиции часто отправлялись бродить. Такие походы, особенно располагавшие к общению, всегда были мне дороги. А тут, после войны, надо было наговориться. Ходили по городу и обретали друг друга заново, хотя знали друг о друге многое по фронтовой переписке.
Иногда возвращались ко мне, и разговоры продолжались в моей комнатушке. Если засиживались до вечера, хозяйка — Людмила Васильевна Рафес приглашала нас к чаю. Живой интерес Бориса к тому, как жила Москва и москвичи в войну, как сами Рафесы перенесли тяжелые годы, его остроумие, простота общения и ненавязчивая эрудиция расположили к нему моих хозяев. Забегая вперед, скажу, что впоследствии они не только приняли Бориса, но и полюбили его. Это чувство было взаимным.
Моя комната в центре Москвы стала удобным местом встреч с молодыми официально не признанными поэтами. Здесь обосновался своеобразный штаб. Сюда к Борису приходили Глазков, Урин, Долгин; сюда же он привел Эму Манделя (Наума Коржавина), ставшего близким всем нам на всю жизнь. Поэты читали свои стихи, бурно их обсуждали, а иногда и шумно спорили. Я узнавал об этих встречах от Иры, которая была поражена незаурядностью Бориса, его лидерством.
В одном из писем после возвращения из Москвы Борис передавал привет моим хозяевам и извинялся перед ними «за громкий стук дверью» (он помнил, что за стеной находилась парализованная бабушка, стук ее пугал). Извинялся за «шумные споры». «Из молодой поэзии, — писал Борис, — води к себе только тех, кто окончательно охрип и говорит шепотом». Эту часть письма я воспринимал тогда, как дань красному словцу. Никто не попрекал Бориса за шумные споры (П. Г.).
С войны Слуцкий не привез стихов. Он приехал в Москву с несколькими экземплярами своей гектографированной рукописи «Записок о войне». Зная его как великолепного рассказчика, друзья не были удивлены. Но когда он успел ее написать? Многим его друзьям-фронтовикам еще предстояло написать свои книги, а тут за короткое время послепобедного затишья, за каких-нибудь несколько месяцев, им уже написана и положена на стол большая, многостраничная книга, напечатанная на гектографе. То был один из первых советских «самиздатов» в прозе. Книга состояла из десятка глав. Начиналась великолепной главой «Основы» — о российском солдате, о Красной армии, мужестве и великодушии, ошибках и пороках. Следующие главы — о политических партиях и обстановке в балканских странах, которые прошел Слуцкий на завершающем этапе войны, о религии, русской эмиграции, русском языке, девушках Европы, евреях, о работе по разложению войск противника.
Илья Эренбург в своих мемуарах вспоминал, что «с увлечением читал едкую и своеобразную прозу неизвестного дотоле Бориса Слуцкого». Самойлов, по свидетельству его жены Галины Медведевой, в разговорах о Борисе Слуцком (и с ним самим) «часто восхищался наблюдательностью, точностью и краткостью его прозаических эссе, написанных сразу после войны, сетовал на упорное нежелание Бориса продолжить столь удавшийся опыт». «Мотив человеческого сострадания, как самое ценное в “Записках о войне…”» увидел В. Кардин, также прошедший войну.
Один из экземпляров «Записок…» Борис оставил Елене Ржевской. «Хочется читать, перечитывать. Лиризм в книге осаживается. “Деловая проза”, — определял на словах Боря жанр своей книги.
Точность, энергия, заразительность, талант слога, ум, смелость, прозорливость уступают порой площадку излишнему комиссарству, и тогда он уязвим.
Но кто мог тогда так выразиться письменно: “Мы разматываем клубок национальных вопросов, сматывать его будет хлопотно”. А при своеобразной манере Слуцкого — вроде бы отстраненности, ироничности — да при склонности к парадоксальным наблюдениям может показаться иной раз, будто он отстраненно глядит на это. Но это не так. Он вещи называет своими именами: “Мои доклады о насилии солдат воспринимались начальством как очернительство Красной армии”. Кто знает те условия, грозные для таких докладов, тот отдаст должное Слуцкому. Ну а рукопись вообще была опасна в те и последующие годы из-за его редкой проницательности, ума, наблюдений, ярких формулировок. Он писал безоглядно, с выбросом на страницы того, что обычно не договаривается. А судя по тому, что рукопись профессионально переплетена, она побывала в чужих руках при разгулявшемся на первых порах Победы духе свободы. Выходит, и он был заражен им» [96] Ржевская Е. М. Домашний очаг // Дружба народов. 2005. № 5. С. 25.
.
Читать дальше