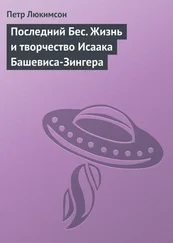Некий музыкант, оказавшийся в компании снисходительного аристократа и требовательного ремесленника, вдруг принимается терпеливо растолковывать трактирному скрипачу, почему он сыграл неправильно и как следует играть правильно.
Слуцкий называл это: «учитель школы для взрослых». Таким он и был.
Иногда кажется, что он пишет басни. Но эти басни — парадоксальны, вроде честертоновских притч. Их мораль всегда насмешлива — чуть-чуть.
Слуцкий мог бы стать одним из самых насмешливых поэтов России. Не стал.
Его насмешливость всегда на грани: еще шажок, и перед читателем безжалостное издевательство. Но Слуцкий никогда не делает этого шага. За него этот шаг сделают в будущем Игорь Иртеньев, Тимур Кибиров, целая когорта настоящих насмешников.
Слуцкий собой обозначает границы современной поэзии. Его поэзия так же близка к прозе, как круг близок к многоугольнику, в который вписан. Однако известно, что, сколько ни дроби стороны многоугольника, с кругом он не сольется, всегда останется некая грань. Такая же пограничность присутствует в идеологии и поэтике Слуцкого. Еще чуточку — и стихи Слуцкого попадают в разряд непримиримой антисоветчины. Еще немного — и стихи Слуцкого — откровенная коммунистическая пропаганда. Но ни того ни другого не происходит.
Здесь все не так просто. Коммунистом Слуцкий был постольку, поскольку коммунизм был человечен. Если же он и становился антикоммунистом, то лишь постольку, поскольку в антикоммунизме появлялась человечность.
Трагедия Слуцкого — в несовпадении его времени со временем общественного развития. В юности он хотел писать «для умных секретарей обкомов». Но умные секретари не хуже умных диссидентов понимали, что «коммунистический либерал» — нелепица, «сапоги всмятку».
Пожалуй, и сам Слуцкий это понимал. В противном случае он не написал бы:
Я строю на песке, а тот песок
еще недавно мне скалой казался…
У какого другого поэта ощущение уходящей из-под ног почвы было бы явлено так зримо, так пугающе убедительно?
Возможно, это связано не только с коммунизмом Слуцкого, но и с его еврейством — подчеркнутым, осознанным поэтически. Пушкин так не гордился своим негритянским происхождением, как Слуцкий гордился своим происхождением еврейским.
«Отечество и отчество» в этом смысле — характернейшее стихотворение. Слуцкий так же не способен отречься от еврейства, как он не способен отречься от России, от русской культуры. Русский патриотизм Слуцкого — столь же космополитичен, как и его еврейство.
Братство — вот важнейшее слово для поэтики и идеологии Слуцкого. Из знаменитой триады Французской революции «Свобода. Равенство. Братство» он на первое место ставит братство.
Он — удивительный, единственный в своем роде пример поэта-коллективиста.
Нет, от имени масс, классов, наций говорили многие поэты — от Уитмена до Маяковского, но все это была поэтическая гигантомания, вывернутый наизнанку индивидуализм, своего рода титанизм. Не то у Слуцкого. Он слишком наблюдателен для титанизма. Он слишком скромен для индивидуализма…
В мир огромных, грохочущих «маяковских» метафор оказывается впущен обыкновенный человек. Это сочетание и рождает поэзию.
Вот иду я, двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в тот единственный и последний,
и предсказанный песней бой…
Мало кто из поэтов относился к себе с такой самоиронией, с такой заниженной самооценкой, как Слуцкий. Мало кто из поэтов мог бы назвать себя… Сальери, трудягой, ремесленником, не более и не менее. Слуцкий назвал себя именно так — незаметно, как это он умел делать. «Первой была моя глухая слава», — писал Слуцкий о своей оттепельной известности. Прекрасный образ. В оглохшей после десятилетий террора стране первая слава — глухая, но это же цитата из «Моцарта и Сальери» Пушкина! Сальери говорит: «моя глухая слава…».
Слуцкий — мастер умело встроенных в свой текст, перетолкованных, точных и неточных цитат. «Если враг не сдается, его уничтожают» — лозунг, придуманный Горьким. Слуцкий переделывает этот лозунг таким образом: «Если враг не сдается, его не уничтожают. Его пленяют. Его сажают в большой и чистый лагерь. И заставляют работать восемь часов в день — не больше…»
Жалостливость — одна из характернейших черт поэтики Слуцкого. Об этом писал Давид Самойлов. «Жалостливость почти бабья сочетается с внешней угловатостью и резкостью строки. Сломы. Сломы внутренние и стиховые. Боязнь обнажить ранимое нутро. Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого…» [346] Давид Самойлов. Памятные записки. М.: Международные отношения, 1995. С. 168.
Пожалуй, никто не смог так верно описать Бориса Слуцкого.
Читать дальше