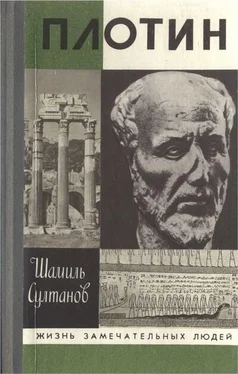Чувственный же мир в себе содержит и то и другое. Но и то и другое абсолютны, следовательно, они не содержатся в телесном, физическом мире.
Чувственный мир постоянно изменяется. Но изменения — это движение, а движение — манифестация жизни. Следовательно, весь этот мир, космос — живое существо. И хотя в нем постоянно кто-то умирает, тем не менее эта смерть — всегда лишь иная форма жизни.
Потому-то зло — это момент несовершенства совершенствующего. И единичное живое всегда содержит в себе злое. Ибо часть всегда не целое, и в себе самом и для себя поэтому часть есть неопределенное. Мыслить материю как чистую неопределенность — прежде всего умом видеть свою внутреннюю неопределенность.
И именно это и предполагает начало действительной борьбы. А борьба невозможна без мужества. И что такое мужество в этом смысле? Чистый и прозрачный свет.
Тираны всегда трусливы, а трусы — это всегда потенциальные тираны. Потому-то они и похожи.
* * *
…«Все это созидает властвующий Разум… Ведь Разум не сделал все богами, но одно — богами, другое — демонами, иное — природой, затем — людьми и — последовательно — животными, не в силу зависти, но в силу умысла, обладающего умным разнообразием.
Истинный живописец каждому месту дает то, что надо. И в городах не все равны, даже если этот город живет по хорошим законам. Точно так же кто-нибудь может порицать драму за то, что в ней не все герои, но есть еще и рабы, и люди, говорящие грубо и дурно. Но будет далеко не прекрасно, если из драмы изъять худшие характеры, так как она получает свою полноту именно от них».
Словно сверху и слева я вижу себя в тот миг: я, Плотин, перестал писать и, близоруко прищурившись, взглянул на небо. Огромное, рельефно очерченное, похожее на мрачное и грозное чудовище, облако медленно надвигалось на солнце, жадно поглощая блестящие нити света. Откуда-то незаметно донесся мягкий, как бы дремлющий шепот ветерка. Зашелестели небольшие беспокойные ветки огромного платана — одинокого хозяина небольшого уютного дворика, — словно возобновляя с кем-то некий таинственный диалог.
Чуть прикусив белесые худые губы, я вновь пишу: «Зло, благодаря силе Блага, — не только зло. Проявляясь в силу необходимости, оно как бы в неких прекрасных оковах, подобно закованным в золотые цепи преступникам. И зло ими скрыто, чтобы, существуя, не быть видным богам и чтобы люди не всегда могли созерцать зло. Но даже и когда они его видят, необходимо, чтобы образы, в которых предстает зло, служили им напоминанием о прекрасном».
Я помню, что замер тогда. Я вдруг почувствовал или даже скорее увидел в себе какие-то огромные, пенящиеся в золотистом свете вращающиеся спирали. Они двигались, сжимались и разжимались, словно вдыхали и выдыхали нечто. Как поющие сферы… И словно прямой стрелой понесся знакомый беззвучный голос:
— Но как же возможно зло в человеческом мире, если все управляется Нусом, совершенным миром эйдосов, который прекрасен уже по самой своей природе как прекрасный образ Единого?
— И Единое, и Ум, и Мировая душа — совершенны. И это так. Но именно в силу своего абсолютного совершенства они должны допускать бесконечно разнообразную иерархию собственного осуществления…
— Иначе говоря, абсолютное совершенство предполагает именно как живое совершенство бесконечно разнообразное приближение к этому Абсолюту, включая и возможное бесконечное безобразие, зло.
— Конечно, ведь если бы не было безобразия, неопределенности, зла, то это означало бы только то, что абсолютное совершенство вовсе не есть совершенство именно как абсолютное. Ведь принцип абсолютного совершенства уже заключает в себе все то, что будет организовано с точки зрения этого принципа.
— Тем самым, если совершенство Единого действительно абсолютно, то обязательно существуют и разные степени осуществления этого совершенства.
— Но это относится и к людям…
— Конечно…
Я вижу, как я опять как бы застыл, полулежа на низком ложе. Это место возле могучего в своем одиночестве платана мне тогда очень нравилось: оно искрилось силой и бурлящим, безмолвным покоем. Порой я слышал, как платан разговаривал со звездами, играл своими ветвями с разнообразными птицами. А иногда я словно чувствовал, как по-детски, беспомощно сильное это дерево жалось к своей матери-Земле.
Я придвинул к себе развернутый пергаментный сверток, лежащий слева. Чуть ли не наизусть помнил я «Тимей» божественного Платона. Но это ничего и не значило для меня. Великие произведения, дарованные богами дерзновенным в своей смелости мудрецам, всегда таинственны, даже если они кажутся знакомыми до последней буквы. И важно было другое: уметь всегда по-иному нечто близкое, понятное, определенное сделать чужим, неизвестным, бесконечным, таинственным, чтобы из этого туманного, неясного и неведомого извлечь совершенно новое и вновь поразительное для себя.
Читать дальше