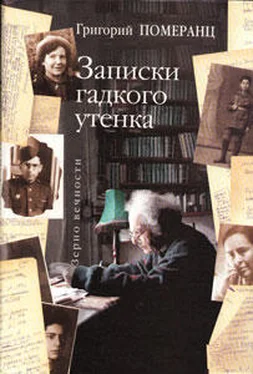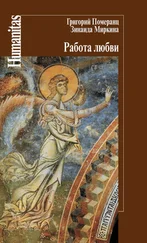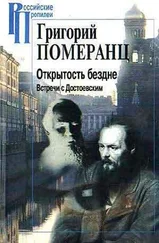Однако главная мысль Левинаса верна (по крайней мере для XX и XXI века): нельзя приносить Другого в жертву принципу. «Единственная абсолютная ценность — это человеческая способность отдавать Другому приоритет». В этом Левинас перекликается и с русскими классиками, и с литературой пробудившейся совести, возникшей после смерти Сталина (я думаю, о Гроссмане, Айхенвальде, Галиче, Коржавине). Но я не уверен, что корень зла — постановка на первое место онтологии, учения о бытии, а этику — на третье (как и у Аристотеля). Идолом могут стать сами «идеи добра», как очень точно говорит один из персонажей Гроссмана. Справедливость не раз становилась кровавым идолом, и повелением Бога оправдывались массовые убийства — от Моисея и Иисуса Навина до св. Ирины и св. Доминика.
То, что Левинас клеймит как «тотальность», я назвал «однониточными теориями», сведением всего богатства человеческих проблем к чему-то одному, например: ликвидировать частную собственность (Маркс) или снять запреты на пути полового влечения и таким образом победить неврозы, созданные запретами (Фрейд). Были и другие упрощения, но я думаю, что сегодня опаснее всего эти.
Следствием первой редукции была деградация общества, в котором систематически подавлялась свобода личности. Следствием второй редукции была деградация общества, в котором систематически разрушались святыни, свобода духа уступала место капризам плоти и люди сползают от любви к вожделению и от вожделения к героину. Бедные нации, острее других пережившие кризисы XX в., избирали обычно первый путь гибели, а богатые — второй. Комфортабельный путь к смерти популяризуется американским телевидением и, видимо, господствует, встречая сопротивление только в экстремистах. Но как заметил один из героев Бальзака, можно убивать себя и наслаждениями.
Я не вижу возможности преодолеть смертельный зигзаг истории без восстановления единства земного и небесного. Тут все пути индивидуальны, но в моем опыте складывалось поведение человека, где нет раскола на личное и гражданское, светское и религиозное. Мы были счастливы с Ирой и возмущены травлей Пастернака и задумали подпольный кружок, который я вел. Готовность на риск была частью нашего счастья, нашей полноты жизни. Мы были счастливы с Зиной, и я рисковал этим счастьем, когда общество замолчало, подавленное репрессиями, и некому было заговорить, и я написал и дал разрешение печатать под моей фамилией «Акафист пошлости», обвинив КГБ в развращении народа. Я считал, что каждый должен делать то, что в его силах, и так как сила моего слова больше, я должен был сделать несколько больше того, что считал нормой для каждого. Без готовности каждого на риск жизнь делается адом. Но я был и остаюсь убежден, что рая не даст никакая политика, никакая гражданская твердость. Целостность общества начинается с целостного человека.
Счастье — не политическая цель, а глубоко личная; но далеко не безразличная для общества. Общество здорово, когда дома человек находит радость и утешение от невзгод. Материальная основа здесь ничтожная: отдельная комната в коммунальной квартире. Минимум средств к жизни. Остальное от государства не зависит. И это остальное — если оно удается — более прочная основа государства, чем конституция. При довольно плохом правительстве можно найти счастье в собственном доме и не гоняться за утопиями, которые все кончались катастрофой. Сказано ведь в Библии: «Да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей». Прилепится — не гомеровским эросом, готовым побежать за каждым изгибчиком, а неразрывностью эроса с нежностью (в ней ничего не смыслили Ахиллы и Агамемноны). Из нежности растет ответственность за Другого, которого ты приручил, и внутренний запрет оскорбить чувство прилепленности. Прилепленность создает облако нежности, в котором могут расти дети — со страхом обидеть Другого, с чуткой совестью, с образом любви, оставленным отцом и матерью… Из молекулы любви лучится свет на всех окружающих. И нет разрыва между поколениями, и не летят под откос святыни, открывшиеся людям, не знавшим компьютера и интернета.
Я иногда с восхищением читаю книги великих аскетов. Но подлинных монахов, у которых «роман с Богом» (как выразился еп. Брянчанинов), очень мало. А культура, созданная неподлинными монахами, не случайно рухнула в конце Средних веков. И хотя я с сочувствием смотрю на попытки восстановить средневековый порыв «ввысь!», я не думаю, что возвращение к прошлому возможно без глубоких перемен в понимании духовного пути.
Читать дальше