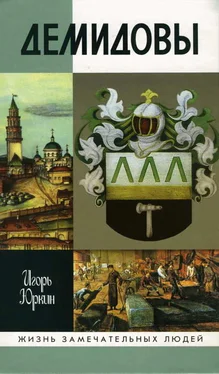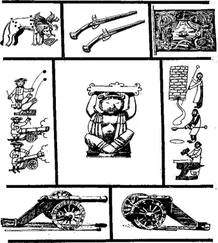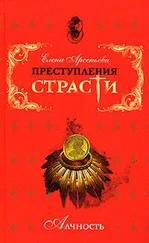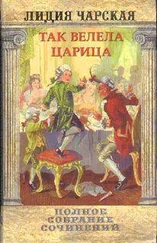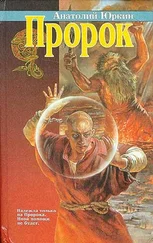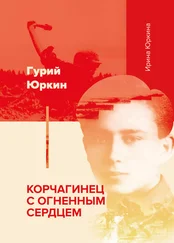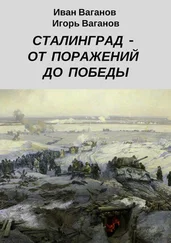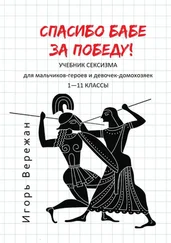Глухое свидетельство о состоянии дел на заводе относится к марту 1697 года. К этому времени Демидов, давно сотрудничавший с Преображенским приказом (учреждением, управлявшим Преображенским полком), завоевал авторитет в качестве специалиста в вопросах производства и ремонта оружия. В это время в Москву поступила прибывшая с Урала железная руда, которую последнее время усиленно там искали, намереваясь строить казенные заводы. Для экспертизы обратились к московским мастерам-бронникам и к Демидову. Он опробовал руду, изготовив из нее в качестве образца две фузеи с замками и два копья. Общее свое заключение сообщил в устной сказке в Сибирском приказе. Собственно руда получила в ней весьма высокую оценку. Но в приказе ему был задан еще один вопрос: согласится ли он переехать на Урал для ее разработки и плавки? Никита ответил обтекаемо: вроде бы отрицательно, но с перечислением условий, которые позволили бы ему озвученное решение изменить. Оговорки позволяли вернуться к вопросу вновь. Что же Никите мешало отправиться на Урал? По его словам, то, что «у него на Туле дом, и деревни, и железных и мельнишных заводов и снастей железных и оружейных заведено немалое число, и многие заводы не довершены» [72] Кафенгауз Б.Б. Указ. соч. с. 86.
. Из этих слов, если понимать их буквально, можно заключить, что на указанный момент Демидов не считал строительство своего Тульского завода законченным — оно продолжалось.
Мощность гидросиловых установок завода напрямую определялась запасом воды в заводском пруду, а он — площадью, ею залитой. Той земли, которую Демидов получил в свое распоряжение грамотами 1695 года, не хватало. Выход рисовался один — экспансия на прилегающие земли ямщиков. Демидов прямо (сказкой) просил об этом в 1700 году [73] РГАДА- Ф. 271. Оп. 1. Кн. 1071. Л. 8 об., 9.
. Просил и добился! Положительное решение оформил указ от 2 января 1701 года, известный по производному от него указу, данному спустя полмесяца тульскому воеводе Ивану Игнатьеву. Земля Демидову отводилась без обиды для ямщиков: те должны были получить в полтора раза больший участок за счет стрелецких земель. Завод этим указом отдавался Никите «впредь впрок безсрочно» (прежде — на 20 лет вместо денежного жалованья). Ему предоставлялось множество льгот, из которых важнейшая касалась отвода для рубки засечного леса: он получил в свое пользование полосу в Щегловской засеке шириной в пять верст. Плюс — монопольное право искать и добывать руду в ближайших к Туле Щегловской и Малиновой засеках [74] Кафенгауз Б.Б. Указ. соч. с. 495, 496.
. Последнее, будь оно в точности исполнено, грозило полной остановкой копки руды на продажу, которой занимались крестьяне, и вслед за этим остановкой всех работавших на этой руде ручных заводов — основного поставщика металла для оружейного дела. Отчасти в силу столь опасных последствий, отчасти потому, что полная монополия на местную руду Демидовым ни тогда, ни после нужна не была, это свое право Демидовы в Туле реализовать не пытались.
Еще одна важная льгота, дарованная Никите указом 1701 года, — право покупать к своим заводам землю и людей. В отличие от других заводчиков он все еще умудрялся содержать свой завод без приписки к нему дворцовых крестьян, чем немало гордился, о чем при необходимости напоминал. Поскольку и крепостных он поначалу не имел, его предприятие носило чисто капиталистический характер (если считать главным его признаком использование вольнонаемной рабочей силы). Но при отсутствии достаточно развитого ее рынка надеяться на существенное развитие бизнеса не приходилось. Это понимал не только Демидов. Альтернатива приписке дворцовых волостей существовала одна: предоставление предпринимателю права покупать земли и крестьян. Прочие заводчики из непривилегированных сословий получат такое право только через два десятилетия после Демидова. Владение им — одна из причин, позволившая ему вырваться вперед в сравнении с другими заводчиками так далеко, что никто из преследователей уже не смог его догнать.
Этим разрешением Демидов воспользовался немедленно. Возможно, нам известны не все ранние его приобретения такого рода. Но совершенно точно, что в 1700— 1702 годах он пятью покупками приобрел 35 четей земли и 14 душ крестьян в деревне Понарьиной соседнего с Тульским Крапивенского уезда. Они обошлись ему в 90 рублей 80 копеек [75] Там же. с. 96.
. Благословенная древность, когда масштабы подобных сделок были таковы, что стороны учитывали копейки…
Читать дальше