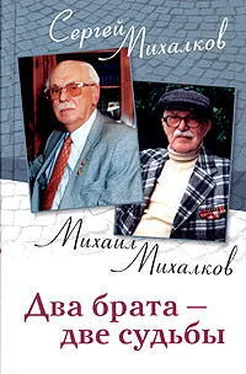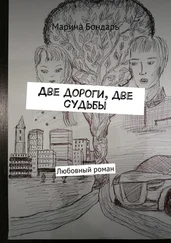С Демьяном Бедным мы не раз варили раков, с Геловани ели шашлыки из «Арагви» и пили грузинское вино.
Он был лучшим исполнителем роли вождя и даже в быту, казалось, не мог выйти из образа оригинала. Эта медлительность в жестах, многозначительные паузы в разговоре во многом лишали его собственной индивидуальности.
В ресторане «Арагви» к нему относились с особым почтением, и все его заказы выполнялись незамедлительно. Грузинский ресторан Самтреста «Арагви», в доме № 8 по ул. Горького, пользовался славой у москвичей. Иначе и быть не могло! Он же был грузинским! Продукты везли в ресторан самолетами прямо из Грузии. В отдельных кабинетах отмечались торжественные события: юбилейные даты, награждения. Даже в дни войны, когда в Москве с питанием было трудно, в «Арагви» можно было хорошо выпить и закусить, а то и прихватить с собой домой свежий лаваш, готовый шашлык, бутылку вина или водки «Тархун». Все московские и приезжие грузины были его гостями. Не скрою, и я был частенько в этом ресторане, когда наездами с фронта бывал в Москве. Меня любили официанты, верили мне «в долг», и перед моим отъездом на фронт, когда я зашел с ними попрощаться, они накрыли стол и угостили меня за свой счет…
* * *
Народный артист СССР Борис Николаевич Ливанов, друг нашей семьи, был ярким, самобытным представителем русского театра. Его могучий талант восхищал и покорял. Лучше Ливанова никто не смог бы сыграть Ноздрева в «Мертвых душах», да и в нем самом, в его характере было что-то «ноздревское» — неистребимо русское. Ливанов был не только талантливейшим актером, но в такой же степени и одаренным карикатуристом. Его дружеские карикатуры на деятелей Московского Художественного театра, писателей и просто знакомых заявляли о нем как о большом мастере этого жанра.
Не могу не вспомнить один из курьезных эпизодов, связанных с Ливановым, свидетелем которого я случайно оказался.
Часто бывая среди приглашенных на правительственных приемах, великий артист не отказывал себе в удовольствии опрокинуть одну-другую рюмку спиртного.
Однажды на одном из кремлевских приемов, вскоре после разоблачения культа Сталина, Ливанов с бокалом в руках приблизился к столу президиума. Ему явно хотелось обратить на себя внимание Хрущева. Но и сам он находился в поле зрения товарищей, следящих за порядком. Один из них подошел к нему и тихо сказал:
— Борис Николаевич! Мы тут поблизости. Если вы себя нехорошо почувствуете, то мы к вам подойдем и отвезем на машине домой!
Ливанов кивнул и еще ближе подошел к столу правительства. Выбрав подходящий момент, когда Хрущев узнал великого артиста и помахал ему рукой, Ливанов вдруг своим громовым, сочным голосом произнес:
— Я пью за здоровье товарища Сталина… Хрущева! Осознав трагичность своей невольной оговорки, он растерянно посмотрел вокруг себя и упавшим голосом спросил:
— Где этот… с машиной! С кем не случается?
Живой классик Алексей Николаевич Толстой пользовался всеобщим авторитетом. Он завораживал собеседника своей простотой, глубиной и блеском ума, яркой, сочной, образной речью и еще чем-то, что присуще, хотя и в разной степени, всем замечательным людям.
В пору нашего с ним знакомства я уже не был новичком в литературе: мои книги для детей были отмечены читателем и общественностью, но имя Толстого вызывало у меня почти суеверное благоговение.
Жил Толстой в Москве. Тогда он много и напряженно работал, но для постороннего глаза эта напряженность была вряд ли заметна. Он часто созывал гостей, любил щедрое застолье, острое слово и сам был замечательным рассказчиком: рассказывал в лицах, как настоящий актер. Алексей Николаевич был вежлив в обращении, зато порой резок и удивительно прям в суждениях. В Союзе писателей Толстой бывал довольно часто. Его утомляли будничные, нетворческие дела и заботы. Но если он брался за что-нибудь, то быстро добивался своего.
Хорошо помню Алексея Толстого в первые недели войны. Он был озабочен, в его движениях появилась стремительность, в высказываниях — предельная, солдатская определенность. Его патриотические статьи волновали глубиной и содержательностью. Он отлично чувствовал истоки народной стойкости, в его страстной публицистике, как правило, отсутствовали риторика и общие места.
В те трудные времена писательская братия была сплочена более обыкновенного: перед лицом грозных событий, всколыхнувших всю страну, забылись все неизбежные споры и пристрастия, как нечто второстепенное, малозначительное или даже пустяковое. Многие уходили на фронт, многим из ушедших не суждено было вернуться: московская писательская организация за годы войны потеряла почти треть своего состава.
Читать дальше