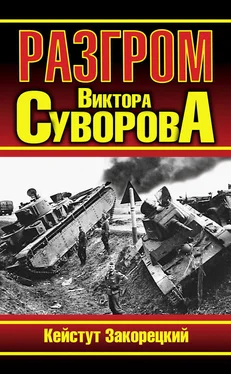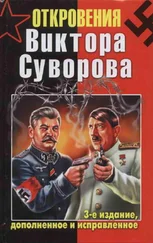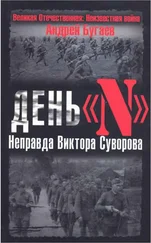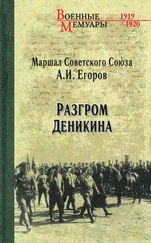Но производство велось медленно. В первой половине 1930-х годов советская промышленность еще не была вполне способной освоить в производстве современные сложные орудия. Кроме того, тогда в СССР еще были проблемы с механической тягой в армии. Однако даже неудачный результат оказался полезным – советские инженеры и технологи в ходе попытки освоения серийного производства зарубежных образцов получали очень полезный опыт, который лишь во второй половине 30-х привел к созданию вполне хороших моделей орудий и их изготовления большими сериями.
По новой теории мотомехвойны танки должны были идти в атаку и в прорыв. А артиллерия – прокладывать им дорогу. Но большая динамика предполагала наличие устойчивой связи и разведки. В этих условиях важным средством связи должны были стать рации, а разведки – самолеты. Например, в упоминавшемся выше учебном пособии ВПАТ 1932 г. есть раздел «БОЕВЫЕ ПРИКАЗЫ МОТОМЕХЧАСТЯМ» . В частности: «Приказ наштадива [начальника штаба дивизии] командиру МО [мехотряда?] на разведку».
«1. Противник, сосредоточившись в районе…, прорвал фронт 5 с. д. [стрелковой дивизии] к 21.00 4.5 [4 мая] и вышел на рубеж. В районе…. в 20.00 4.5 обнаружено скопление пехоты, артиллерии и автотранспорта пр-ка.
2. 3 с. д. [стрелковая дивизия] в 5.00 4.5 выступает по маршруту…, с задачей… Большой привал… до 12.00.
3. МО разведать направление движения, силу, состав и технику пр-ка, обнаруженного в районе…; конечный рубеж разведки…
5. Донесения присылать до 5.30 в… с 5.30 по дороге… в голову авангарда, где будет следовать комдив.
Связь по радиос 0 до 10 м. [минут] и с 30 до 40 м. каждого часа.
6. С 2.00 Ваше подчинение переходит авиазвено, аэродром… и стрелковая рота 7 с.п. [стрелкового полка].
7. Зона разведки корпусной авиации…
Наштадив /подпись/» .
Лихо! Осень 1932 года! Кстати, боевая авиация тогда еще тоже была как бы не совсем развита. Будущий Главный конструктор Яковлев А.С. только год как закончил Военно-воздушную академию – в апреле 1931 г. «по первому разряду» (здесь информация из его воспоминаний «Цель жизни», 1969) и был направлен на авиазавод имени Менжинского. На том заводе в рамках ЦКБ (Центрального конструкторского бюро) работала «сильная группа авиационных инженеров во главе с конструкторами Дмитрием Павловичем Григоровичем и Николаем Николаевичем Поликарповым. Григорович, Поликарпов и ещё несколько старых специалистов были осуждены по обвинению во вредительстве и находились на тюремном положении. Однако им предоставили возможность работать. Они жили и работали в таинственном «седьмом ангаре», приспособленном под внутреннюю тюрьму».
Там же с ними работали и «вольные» конструкторы, среди которых был и С.В. Ильюшин. И находилось то ЦКБ в ведении технического отдела ГПУ. « Организация была многолюдная и бестолковая, расходы большие, а отдача слабая. Только Поликарпов работал блестяще и дал за 1930–1934 годы истребители И-5, И-15, И-15 бис и И-16, а Ильюшин в 1936 году построил ЦКБ-4 (ИЛ-4)» (стр. 82).
А я-то раньше удивлялся – что за странные названия некоторых предвоенных самолетов – «ЦКБ»? Кто ж был их «Главным конструктором»? А как оказывается – товарищ Ягода! Вот где был создан знаменитый «устаревший» к лету 1941 г. «ишак» «И-16»! Конечно, для страны гораздо дешевле платить главному конструктору тюремной баландой, чем выписывать из-за границы разных инженеров за полтора миллиона рублей золотом (каждому). И еще вопрос, что же там насочиняют те буржуазные специалисты? А если навредят, то как их посадить? Никак не посадишь. Только и останется списать расходы на «эксперименты, принесшие вполне полезный опыт» своим конструкторам, которых приставляли к этим зарубежным «в помощь». А вот свои конструкторы обойдутся и без золотых рублей.
Но мы отвлеклись. Про немецкого конструктора Гроте и его вредительский танк прорыва ТГ-1 с заклинившей нижней рубкой выше уже упоминалось. Вернемся на завод имени Менжинского. На нем в 1931–1933 годах молодой конструктор А.С. Яковлев в свободное от работы время возглавил группу энтузиастов, в результате работы которой «в течение двух-трех лет по разным углам [большого режимного завода!] незаметно [!!] вырастали одна за другой машины АИР-5, АИР-6 и АИР-7» . АИР-7 с мотором М-22 мощностью 480 л.с. был собран и вывезен из цеха в конце лета 1932 г. и произвел сенсацию. Директор завода только руками разводил: «Как оказалось возможным столь быстро и незаметно для начальства выстроить такую машину?» АИР-7 смог разогнаться до 330 км/час, что оказалось быстрее, чем летал серийно выпускавшийся И-5 (280 км/час). Этот факт руководству завода и ЦКБ ОГПУ очень не понравился, и, воспользовавшись аварией в очередном полете, 5 октября 1933 г. директор приказал группе Яковлева очистить «угол». И при этом у всех отбирались пропуски на территорию завода. Яковлев решил жаловаться! Но куда? Сначала он обратился к секретарю партийной организации завода. Тот посоветовал написать в ЦКК ВКП(б). Так Александр Сергеевич и сделал. И вызвали его к члену Политбюро, председателю ЦКК Яну Эрнестовичу Рудзутаку. В беседе с ним Яковлев рассказал, что «в нашей стране не так-то много самолетостроительных конструкторских бюро. Практически только два: Поликарпова и Туполева. Так разве можно было так жестоко и бессмысленно расправляться с нашей маленькой группой молодых энтузиастов?» Заметим: и одно из них – Поликарпова – некоторое время «творило» «на нарах» (их освободили после успеха И-5). А Туполеву в подобные условия еще предстояло попасть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу