Перо попалось какое-то жесткое, царапало бумагу, раздражающе скрипело и оставляло кляксы.
Суть письма она, однако, подытожила с твердостью:
«На мой взгляд, делается все, что возможно».
А закончила следующим образом:
«Я не могу говорить об этом слишком подробно, потому что боюсь, как бы прекрасные очи г-на Тьера не заглянули в это письмо, — ведь еще вопрос, попадет ли благополучно в Лондон податель этих строк, швейцарец, редактор из Базеля, который привез мне вести от Утина.
Я сижу без гроша. Если Вы получили мои деньги, постарайтесь их с кем-нибудь переслать, но только не по почте, иначе они не дойдут. Как Вы поживаете? Я всегда вспоминаю о всех вас в свободное время, которого у меня, впрочем, очень мало. Жму руку Вам, Вашей семье и семье М…» Имена порой называла полностью, а то сокращала до одной или нескольких букв: Клю(зере), Ут(ин), Ж(аклар). Имя Маркса на всякий случай зашифровала от «прекрасных очей», написала «семье М.» — и «М.» подчеркнула жирно. «…Что поделывает Женни?
Если бы положение Парижа не было столь критическим, я очень хотела бы, чтобы Женни была здесь: здесь так много дела. Лиза».
Перечла написанное. Противоречиво, нет спору. Впрочем, те, кому предназначено письмо, сумеют понять, чем вызвана эта противоречивость: отчасти это умышленно, для отвода все тех же «прекрасных очей г-на Тьера»… да и некогда править. Вообще-то хоть из-за грязи не мешало бы перебелить… Вместо этого еще втиснула между строк на первой страничке — мелко-мелко, чтобы уместилось, — между горьких строк, перед признанием в пессимизме: «Тем не менее мы до сих пор сохранили все наши позиции. Домбровский сражается хорошо, и Париж действительно революционно настроен. В продовольствии нет недостатка».
И к тому торопливо добавила постскриптум, за отсутствием места поперек листка пересекая написанное прежде:
«С Малоном и Серрайе я встречаюсь редко; каждый из нас слишком занят…»
И, вложив листки в конверт, надписала на нем условный адрес:
«Герману Ф. Юнгу, 4, Чарльз-стрит, Клеркенвелл, Лондон».
Адресат, конечно, незамедлительно передаст письмо по назначению, Марксу.
После собраний ее окружали плотным кольцом. Волонтерки называли свои имена, чтобы она записала. Другие же продолжали дискуссию.
— Ты мне вот что скажи, гражданка. Не будь у меня троих галчат, я бы не думала, с одинокими все ясно. А нам как быть? Муж в батальоне на крепостном валу получает полфранка — а при Баденге слесарем получал пять! Да я шила… плохо, хорошо, франка полтора набегало. А нынче клиенты — фьють! А Коммуна полтора месяца обещает… Чем нам рты у галчат затыкать? Обещаниями?
Что ответишь женщине, если она требует работы, потому что ее муж, сын, отец не может семью прокормить? Что до сих пор длятся приготовления, да и обсуждения тоже, что все еще подбирают помещения и людей: закройщиц, конторщиц, хранительниц складов? Решение открыть во всех округах муниципальные мастерские уже почти месяц как принято. А сколько открыто? Или, может быть, отвести ее за руку, как ту гражданку с панели? Такими поступками дел не наладишь. У Коммуны полно забот, да какая нужда толковать парижанкам, что главное решается сейчас за крепостными валами? Будто сами не знают… Елизавета пересказывает разговор, подслушанный вчера в омнибусе. Две женщины возвращались из траншей, со свидания с мужьями. Одна была в слезах, другая ее утешала, говоря, что не верит, что можно погибнуть, защищая такое хорошее дело. «Но даже если наши мужья не вернутся, — сказала она, — Коммуна обещала заботиться о нас и наших детях». Коммуна действительно обещала — и парижанки верят, что она сдержит свое обещание, но есть-то галчата каждый день просят, и не один раз на дню!
И кто-то уже кричит с надрывом:
— Коли при Коммуне еще хуже, чем при Баденге, на что такая Коммуна?!
Не буржуа, не предатель — парижская прачка или швея.
Натали Лемель, куда лучше Елизаветы знавшая, как живут эти люди, объясняла: в Париже фабричных работниц не так уж много. Не мало, конечно, у Бессо, у Дюзотуа, но несравненно больше надомниц, поденщиц, все эти прачки, цветочницы, портнихи. А при Баденге заработки их были такие, что в семье не могли дождаться, пока наконец подрастут дети, пойдут на работу…
«При Баденге» — означало в годы империи, при Наполеоне Третьем. Лизе уже не раз приходилось слышать эту презрительную его кличку.
— При Баденге знаешь какой был закон? Не принимать на фабрику младше восьми лет! А у тех, кому еще нет двенадцати, чтобы рабочий день не больше восьми часов… Ну-ка, вспомни себя в восемь лет! И если после этого женщины требуют от Коммуны работы — это их законное право!
Читать дальше
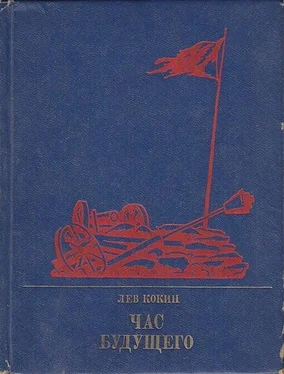

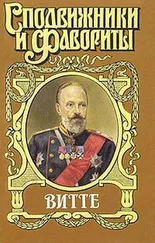
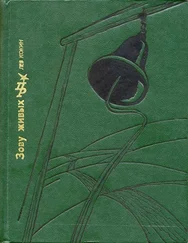



![Лев Линьков - Призвание [Рассказы и повесть о пограничниках]](/books/415685/lev-linkov-prizvanie-rasskazy-i-povest-o-pogran-thumb.webp)


