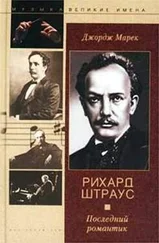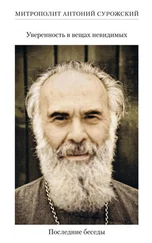— Действительно сразу после войны была такая антисемитская атмосфера, что надо было ее увезти?
— Был погром в Кельце, был погром в Кракове, да и в других местах убивали евреев. Убили мою приятельницу — она ехала на грузовике, потому что жила в Пабьянице, а других средств сообщения не было. Ее одну вытащили и застрелили прямо на дороге. Поезда останавливали: входили в вагон и тех, кого принимали за евреев, убивали. Одного за другим. В так называемых вагонных акциях погибли несколько сот человек.
После погрома я ехал в Кельце на санитарном поезде и видел лежащих на станциях убитых евреев. Говорю вам, так было везде. Вот вам и антисемитская атмосфера.
— Вам никогда не хотелось объяснить Эльжуне, почему вы ее отправили за границу?
— Нет, мне — нет… А вы что, судьи?
— Нет, но, может, надо было попытаться ей объяснить. Просто по-человечески. В конце концов, она была маленькая, дети нуждаются в объяснениях.
— Я ее больше не видел и ничего не объяснил.
Пани Ивинская говорила: «Увидишь, как ей будет хорошо. Они богатые, она девочка, будет жить как в раю. А что ты можешь ей дать?» Кто-то еще добавлял: «Будь Зигмунт жив, он наверняка бы предпочел, чтобы она жила в Америке, а не здесь, у тебя». Такой вот разнообразный шантаж, ну и…
— А когда вы узнали, что она покончила с собой, вы себя не возненавидели?
— Послушайте, наглецы, перестаньте лезть в душу. Вам бы только о душе…
— Но ведь Зигмунт был вашим товарищем.
— Извините, но здесь она тоже могла покончить с собой. Никаких причин для самоубийства у нее не было, видно, что-то в голове помутилось.
А если бы она здесь покончила с собой, тогда что? Странные вещи вы говорите: если бы да кабы… Я не знаю, что бы было…
Хотите, чтобы кто-то почувствовал себя виновным в том, что другой человек по какой-то причине с собой сделал?
Не получится.
Видно, что-то у нее в уме происходило… Не потому, что она отсюда уехала, и не потому, что жила в монастыре и коленки у нее были стерты и тому подобное. Не поэтому. Что-то там было… Она жила в идеальных условиях, мало кому из детей на свете жилось так хорошо, как ей, так что кончайте говорить глупости!
Вам одно нужно: чтобы я бил себя в грудь и каялся за то, что она покончила с собой без причины, ну или, может, были причины… психические.
Вам нужно, чтобы я чувствовал себя виновным. Это бы вам понравилось.
— А вы были строгим отцом? Мы понимаем, психология…
— Мои дети выросли людьми. Оба. А каким я был, не важно…
Станислав Краевский
Марек Эдельман — личность необыкновенная. Во многих отношениях; в частности потому, что был воплощением противоречивости. То, что он говорил, противоречило тому, что делал. Он говорил о человеке, как о частице природы: будто бы человек всего-навсего животное. И одновременно безоговорочно следовал нравственным законам, то есть вел себя совершенно не так, как животное. В обеих этих ролях он занимал крайние позиции. Говоря о человеке с позиции естествоиспытателя, не оставлял ему места для свободного волеизъявления. А когда требовал быть нравственным, исходил из того, что мы обладаем неограниченной свободой воли. Такого рода противоречивость часто встречается, но столь ярко выраженная — редко. Он говорил, что поведение человека определяют только врожденные рефлексы. Охотно приводил сравнения с поведением животных, например звериных стай, в которых самых слабых особей защищают, но если это невозможно — их бросают. И одновременно он был из тех людей, о которых с полнейшей уверенностью можно сказать: такой — вопреки всему — тебя не бросит. Поэтому следует принимать во внимание не столько его слова, сколько поступки. Точнее, его рассказы, вытекающие из опыта, а не общие рассуждения об устройстве мира и о том, что Бога нет.
В еврейской традиции вера — не самое важное. Гораздо важнее поведение человека. Вера бывает непрочной, бунт против Бога — часть взаимоотношений с Богом. Убежденный атеист остается человеком. Главное, чтобы он был человеком порядочным. Оценивать каждого надо по тому, как тот себя ведет. Да, по традиции человек должен быть на высоте требований — и моральных, и ритуальных. У евреев не десять, а шестьсот тринадцать заповедей. Но в жизни все гораздо сложнее.
Эдельман во время войны оказывался в ситуациях, настолько далеких от нормальных, что — и это правильно — не считал разумным всегда следовать обычным правилам. Еврейская религиозная традиция этому не противоречит. Известно, что заповеди нужно интерпретировать в зависимости от ситуации, в которую человек попадает. Например, во время войны некоторые раввины заменяли традиционную идею освящения божественного Имени (кидуш хашем ), то есть мученичества (уповай на Бога, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью), более подходящим к беспрецедентной ситуации постулатом почитания жизни (кидуш хахаим). А Эдельман, со времени памятного интервью, которое взяла у него Ханна Кралль, учит меня и всех нас, что заповедь, требующая почитать родителей, может означать призыв отправиться с ними в Треблинку. Чтобы не оставлять их без опеки. И что больше героизма проявляет не тот, кто стреляет, а тот, кто отдает другому свой цианистый калий.
Читать дальше