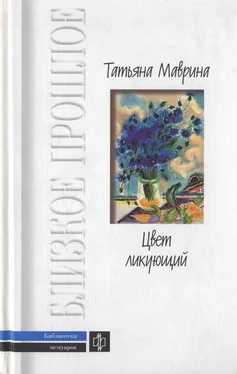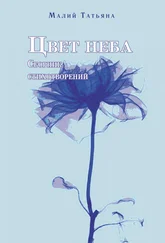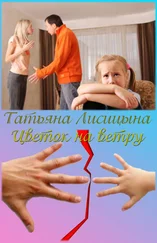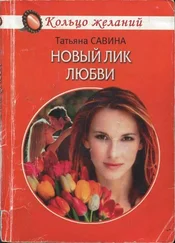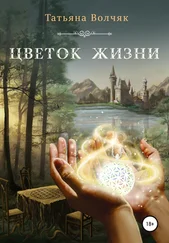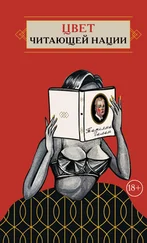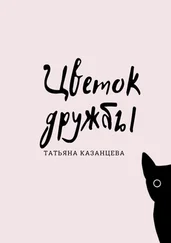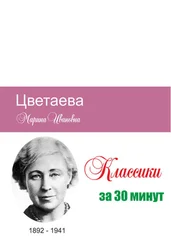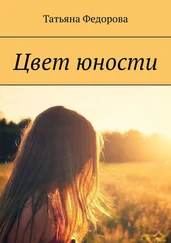Мы пришли в музей (Коломенское — музей с 1912 года) через деревню, где стоял тогда старый дом Кошкиных, построенный, по легенде, из бревен разобранного царского дворца. Население драчливое, в духе всей истории Коломенского, подмосковного поселка, первым принимавшего все невзгоды столицы. Кто тут только не побывал! И Дмитрий Донской, и Лжедмитрий, и Петр I (мальчиком), и Болотников, и даже «денежный бунт» произошел в Коломенском же. Встречали нужных гостей с почетом — «золотом, соболями и хлебом…».
Музей на горке полон каменных построек, удивляет все крепко поставленное, удачно сложенное. Мысленно рисовался и деревянный дворец среди рощи, от которой сохранились еще многолетней давности дубовые пни.
Первая шатровая церковь Вознесения построена здесь в 1532 году. «Верх на деревянное дело», — писали про нее в летописи. Гениальный строитель сложил из кирпича свою излюбленную в деревянном храмовом зодчестве форму — шатровую.
Чтобы скрыть для зрителя каменную тяжесть церкви, он догадался большой шатер заполнить пересекающимися линиями каменного жемчуга. Поставил ее высоко над рекой Москвой, где далекие дали с силуэтом Угрешского монастыря. Пейзаж красив, церковь в него вписалась хорошо. Стоит одиноко и сама на себя любуется, любуемся и мы.
Любовался ею в XIX веке и композитор Берлиоз. Церкви идет его описание тишины: «Ничто так не поразило меня в жизни, как памятник древнерусского зодчества в Коломенском… для меня чудо из чудес… Красота целого, во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина, какой-то новый вид архитектуры, стоял ошеломленный».
А летописец пишет: «Досели такой не было». В хорошую погоду из Коломенского видно и «царское село Остров», где шатровая церковь Спаса Преображения, этого же времени, из белого камня с массой кокошников, их до двухсот. По бокам два придела. И про нее пишут в летописи: «Такого еще не было на Руси».
За оврагом над той же рекой Москвой другой храм — Дьяковский. Другой мастер, а может, и один. На широком постаменте пять храмов вместе. В строгой нарядности верхних этажей, в середине главный храм — Иоанна Предтечи, увенчанный выше всех «короной» из белых полуколонн. Храм торжественно наряден, в народных традициях, блестящая страница воскрешения вековых вкусов. И про него пишут в летописи: «Такого еще не было на Руси». Основан он в 1529 году, его считают первым храмом нового стиля в этом веке, что послужил примером девятистолпному Василию Блаженному на Красной площади.
Когда я рисовала в Коломенском, сотрудники музея запирали меня в Соколиной башне, чтобы никто не мешал. Когда кончала работу, я кричала в окно, меня отпирали. Музейщики мне всегда помогали!
Продолжу про шатровые храмы: на Чистых прудах — загадочная Меншикова башня — храм Архангела Гавриила. По приказу А. Д. Меншикова он был построен архитектором И. П. Зарудным с итальянскими мастерами в 1704–1707 годы. По воле заказчика шатер сделали выше Ивана Великого на 1,5 сажени. Наверху водрузили фигуру Архангела Гавриила с крестом. После пожара верх сгорел, вместо фигуры поставили вазу. Меншикова сослали в Сибирь, от новых хозяев храма следов не осталось… Сохранились красивые валюры у крыльца, я их даю в альбоме. Они тоже загадка.
Трехшатровую церковь на Потылихе я разыскала по подсказке Татьяны Григорьевны Цявловской на пустынном романтическом бугре, рисовала, любуясь ее шатрами и пейзажем окраины Москвы.
А белую красоту с темными шаровидными куполами везде — мы с Николаем Васильевичем Кузьминым нашли, блуждая по оврагам и свалкам, в Медведкове (вотчина князя Пожарского). Церковь Покрова начала XVII века. Зеленая крыша шатра на осеннем небе, ниже группа кокошников. Высока и ослепительна была! Сейчас в черте города.
Уже после запрещения Никоном строить шатровые храмы, по реке Москве за одно десятилетие обильно возводятся вотчинные храмы совсем нового стиля, с колокольней в верхнем восьмерике, так называемое «нарышкинское барокко». Просуществовало оно, бурно развиваясь, недолго — с 1690 по 1720 год. В 1723 году, 11 марта, Синодом было запрещено строить многоярусные шатровые храмы. За это время выросли: церковь Покрова Богородицы в вотчине дяди Петра I в Филях (1696–1699); церковь Нерукотворного Спаса в вотчине боярина Шереметева в селе Уборы (1693–1697); престол Живоначальной Троицы и престол Знамения Богородицы — в вотчинном селе бояр Нарышкиных — Троице-Лыкове (1690–1704). Завершением «нарышкинского барокко» — предусадебного храмостроительства — считают церковь в селе Дубровицы, в 60 км от Москвы.
Читать дальше