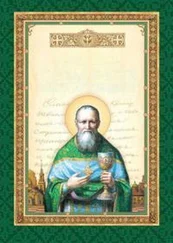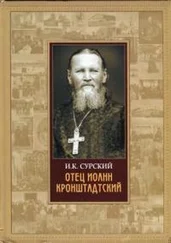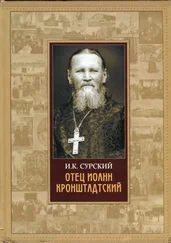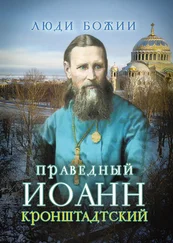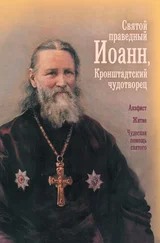Таким образом, архиереи одновременно преследовали две цели: сделать осмысленное участие в литургии основой православного благочестия и повысить роль священника, усилив как его проповедническую работу с паствой, так и в целом мероприятия, направленные на просвещение прихожан. Новый импульс в XIX в. обрела и миссионерская деятельность {37} 37 Обзор миссионерской деятельности того времени см.: Smirnov Е. К. А Short Account of the Historical Development and Present of Russian Orthodox Missions. L., 1903.
. В Казанской Духовной академии миссионерская деятельность стала отдельной дисциплиной, был сделан перевод Священного Писания на языки большинства народов Российской империи {38} 38 См.: Знаменский П. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870). Казань, 1891–1892; отдельный оттиск А. Пыпина из «Вестника Европы» [б.д.], с. 710–711, 732. Также см.: Geraci R. Window on the East: Ethnography, Orthodoxy, and Russian Nationality in Kazan, 1870–1914. Ph. D. Diss. University of California at Berkeley, 1995.
.
Ко времени, когда о. Иоанн вставал на путь своего пастырского служения, преобразования, начатые как церковными, так и светскими властями, существенно синхронизировались. По сути, в России стремительно формировался принципиально новый духовный опыт, основанный на заметном возрастании роли проповеди и церковного просвещения, более ревностной личной молитве и превращении паломничества из удела немногих в довольно массовый феномен православной жизни. Этот духовный опыт стал своеобразным ответом в общем-то по-прежнему традиционного русского общества на вызовы «цивилизации» и «прогресса», порожденные Новым временем. Сходные процессы переживали традиционные христианские конфессии и в Европе, в частности во Франции {39} 39 Kselman Th. A. Miracles and Prophecies in Nineteenth-Century France. New Brunswick, 1983. P. 113–140.
. К тому же стремительный рост численности сектантов и старообрядцев вынуждал Русскую православную церковь более грамотно и отчетливо излагать догматы веры {40} 40 О старообрядцах см.: Robson R. Liturgy and Community Among Old Believers, 1905–1917 // Slavic Review. Vol. 52 (Winter 1993). № 4. P. 713–724. О протестантских сектах см.: Blane A. Protestant Sects in Late Imperial Russia // The Religious World of Russian Culture, Russia and Orthodoxy. Vol. 2: Essays in Honor of Georges Florovsky. The Hague and Paris, 1975. P. 267–278.
.
Кронштадтский пастырь стал одновременно и порождением, и символом всех этих перемен. Его нововведения следует рассматривать в контексте как быстро менявшихся реалий мирской жизни, так и намерений церковных иерархов не только не утратить контроль над данными процессами, но и придать им максимально возможную православную окраску.
Детские годы и начало пастырского служения о. Иоанна
Иоанн Сергиев родился 19 октября 1829 г. в небольшой деревне Суре Архангельской губернии в семье дьячка местной церкви, Ильи Михайловича Сергиева, и его жены — Федоры Власьевны.
Новорожденный выглядел настолько немощным, что родители сразу же окрестили его: если младенец и не выживет, то по крайней мере покинет этот мир уже христианином. И впоследствии Иоанн оставался слабым и болезненным ребенком, однажды он едва не скончался от оспы. В своей автобиографии о. Иоанн описывает Илью Михайловича и Федору Власьевну как людей чрезвычайно набожных — по его словам, именно они привили ему любовь к молитве и воспитали в духе глубокой религиозности {41} 41 Автобиография // Святой праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников / Сост. А. Н. Стрижев. М., 1997. С. 14.
. Хотя семья была бедной, родители смогли отправить десятилетнего Иоанна на свои скромные сбережения в Архангельск в церковно-приходское училище. К сожалению, несмотря на все свое усердие, отрок поначалу не обнаруживал ни малейшей склонности к учебе и мучился при мысли, что родители тратят на него впустую свои последние гроши. Однако после упорных ночных молитв он внезапно начал полностью понимать уроки и стал одним из лучших учеников. После школы он поступил в духовную семинарию, которую окончил в 1851 г., показав самый блестящий результат в своей группе. Благодаря этому Иоанн получил возможность продолжить образование в Санкт-Петербургской Духовной академии.
Однако в том же году скончался его отец, оставив Федору Власьевну практически без средств к существованию. Чтобы помочь матери и сестрам, Иоанн хотел отказаться от учебы в академии и немедленно поступить на работу дьяконом или даже пономарем, однако Федора Власьевна решительно настояла на том, чтобы сын продолжал образование. Тогда Иоанн параллельно с учебой устроился в администрацию академии переписчиком бумаг и посылал все свое жалованье — десять рублей в месяц — домой.
Читать дальше
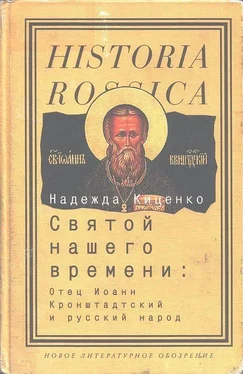
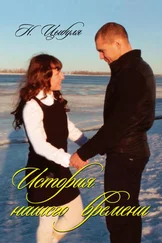
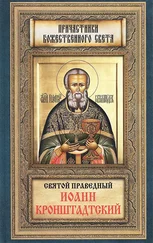

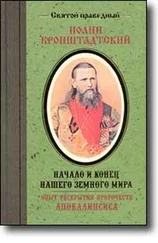
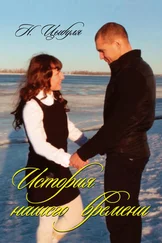

![Алексей Солоницын - Чудотворец наших времен [Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский]](/books/402293/aleksej-solonicyn-chudotvorec-nashih-vremen-svyatitel-ioann-arhiepiskop-shanhajskij-i-san-francisskij-thumb.webp)