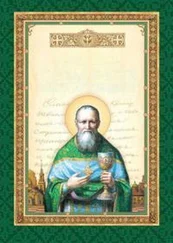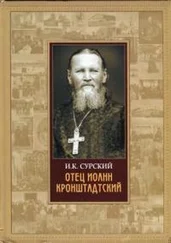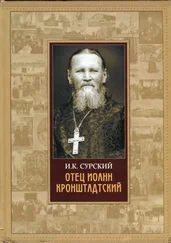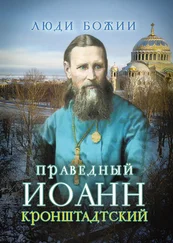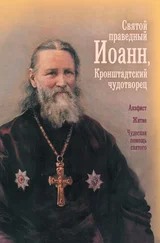Первое впечатление, которое производят ранние дневники о. Иоанна, заключается в их явном ученическом содержании. Составленные в первые годы после рукоположения в сан иерея, они практически полностью посвящены размышлениям о Священном Писании. Это и понятно, ведь сначала надлежит досконально изучить традицию, в которой придется прожить жизнь, затем сделать эту традицию неотъемлемой частью собственного мировоззрения и только после того ступать на стезю наставничества. Учитывая исключительное внимание о. Иоанна к экзегетике, можно было бы предположить, что он намеревался всерьез заняться богословием {48} 48 Согласно устойчивому православному представлению, богословы должны быть аскетами или, по крайней мере, вести безукоризненно праведную жизнь, как, например, Григорий Нисский, Максим Исповедник, Симеон Новый Богослов и др. Современные размышления на этот счет см.: Помазанский М., прот. Очерк православного миросозерцания о. Иоанна Кронштадтского // Пятидесятилетие прославления приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. Юбилейный сборник. Нью-Йорк, 1958. С. 66–82; Orthodox Tradition. Vol. 11 (1994). № 3. P. 69.
.
Однако при более внимательном рассмотрении его экзегетических размышлений становится очевидным совершенно иное побуждение молодого иерея. Интерес о. Иоанна к Священному Писанию был отнюдь не исследовательским или богословским, а глубоко личным. Подобно некоторым отцам-пустынникам, он стремился к непосредственному и личностному восприятию Слова Божьего с той лишь разницей, что, в отличие от древних подвижников, он записывал результаты своих размышлений {49} 49 Пример аналогичного подхода у современников о. Иоанна см.: Феофан (Говоров). Примеры записывания добрых мыслей, приходящих во время богомыслия и молитвы… М., 1903.
. В отличие от таких мастеров «умного делания», какими можно считать, например, оптинских старцев, опиравшихся как на собственный иноческий опыт, так и на наставления других авторитетных представителей монашества, о. Иоанн продвигался по избранному пути один. Единственными его спутниками и наставниками были Священное Писание и собственный, пусть и небогатый, но уже наметившийся опыт непосредственного постижения Божьей воли {50} 50 О традиции духовного старчества в православии см.: Смирнов С. И. Духовный отец в древней Восточной церкви (История духовничества на Востоке). Сергиев Посад, 1906; Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Джорданвилль, 1970.
. У пастыря не было духовного отца или наставника, что, кстати, является весьма необычным для православной традиции фактом.
Отсутствие в дневниках кавычек или каких-либо других знаков, отделяющих слова Священного Писания от авторских, показывает, что о. Иоанн воспринимал его текст органично, как неотъемлемую часть своего внутреннего мира. Весьма показательно также и то, что же именно привлекало его в Библии. Он каждый раз стремился вычленить заложенный в ней важнейший и вместе с тем простейший нравственный урок, а не отдаляться от текста, чтобы оценивать его или анализировать. Его утилитарный подход к Священному Писанию чем-то напоминает подход художника-новичка к работам своих предшественников: он одновременно и благоговеет, и стремится достичь мастерства. Почти все отрывки из Библии, которые о. Иоанн переписывал и комментировал, от Книги Бытия и до Книги пророка Исайи, разбираются по единому образцу: пересказ, выделение главного и размышления. Характерен его комментарий по поводу сюжета о Вавилонской башне [1] Здесь и далее в цитатах частично сохранены орфография и пунктуация оригинала.
:
«Вот тебе поблагодарила тварь… не умела поддержать себя в твоем достоинстве. Посмотри на твое начало: из земли, из грязи, из бездушной материи Бог создал такую дивную тварь, состоящую из прекрасного тела и еще прекраснейшей души, одаренной разумом и свободою: вместо того, чтобы жить да благословлять и благодарить Бога и повиноваться Ему, человек забылся в своей красоте и в своем величии, тварь сама захотела быть Божеством… так худо, несовершенно понимали они Бога. Так мало они знали, что такое — земля, и что — небо» {51} 51 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.
.
Таким образом, целый ряд тем, которые впоследствии постоянно присутствовали в проповедях о. Иоанна, как, например, изначальное и непреодолимое расстояние между Богом и человеком или бессмысленная гордыня и примитивное высокомерие людей, отказавшихся признать свое подчиненное Творцу положение, впервые были проговорены кронштадтским пастырем именно как его дневниковые комментарии к Священному Писанию. Долгие размышления над библейскими выписками усиливали внутренний диалог о. Иоанна с боговдохновенными текстами. Он ведь и без того уже с самого детства был просто пропитан языком и образами православного богослужения и Нового Завета {52} 52 Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский… С. 8—10, 15–16.
. Понятно, что уже через несколько месяцев после того, как он начал ежедневно переписывать выдержки из Священного Писания, совершая при этом регулярные церковные службы, думать и говорить на этом литургическом и библейском наречии стало для о. Иоанна органичной и естественной потребностью. К примеру, восклицание «Живодавче Христе, Боже наш, помилуй мя» столь же типично для его дневника, как и для церковной ектеньи или канона. Подобным же образом богослужебный язык у него с легкостью сочетается с разговорным. Когда он пишет «Слава силе Твоей, Господи!», он может запросто продолжить данный возглас фразой: «Слава и вам, святые апостолы, верные слуги Христа, Бога нашего!». Благодаря фамильярному «и вам» канонические церковные выражения как бы утрачивают свою почти что эсхатологическую неизменность и вводятся в повседневный речевой обиход {53} 53 ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 28 об. Д. 3. Л. 2 об.
.
Читать дальше
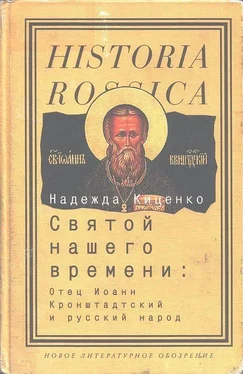
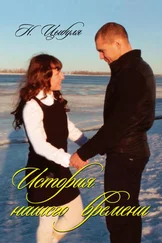
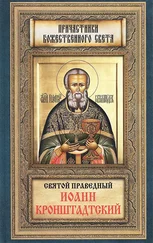

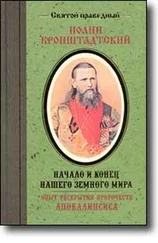
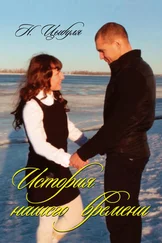

![Алексей Солоницын - Чудотворец наших времен [Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский]](/books/402293/aleksej-solonicyn-chudotvorec-nashih-vremen-svyatitel-ioann-arhiepiskop-shanhajskij-i-san-francisskij-thumb.webp)