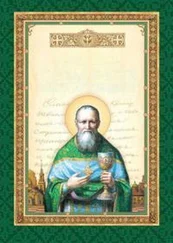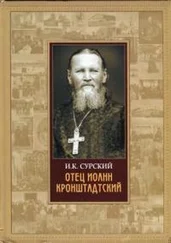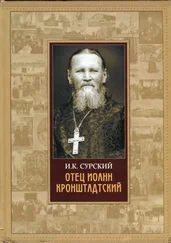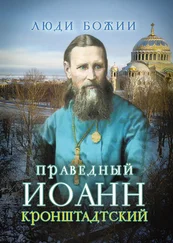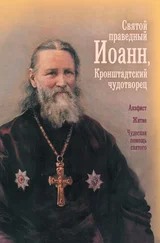Служебная должность Иоанна позволяла ему иметь собственную комнату, и он ценил эту редкую для слушателя академии возможность уединяться для глубокой молитвы и самостоятельных занятий. Он серьезно изучал философию, историю, латынь, литературу, физику, математику, иностранные языки, а также патристику и богословие. Хотя пастырь позднее и мало писал об этом времени своей жизни, оно во многом определило его дальнейший путь. Он получил основательное образование, полюбил святоотеческую литературу, особенно творения св. Иоанна Златоуста, а также митрополита Филарета Московского, и почувствовал, что его истинное призвание — стать священником {42} 42 Александр (Семенов-Тян-Шанский). Отец Иоанн Ильич Сергиев. Нью-Йорк, 1955. С. 22.
. У Иоанна не было близких друзей, и спустя годы его однокурсники могли вспомнить о своем бывшем товарище лишь то, что «он все время говорил о смирении». В последний год обучения в академии Иоанн впал в необъяснимую депрессию и, как он признавался позднее, смог выйти из нее только благодаря непрестанной молитве {43} 43 Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский. Полная биография с иллюстрациями. СПб., 1903. С. 8, 25.
.
Еще будучи слушателем академии, Иоанн как-то раз увидел во сне, как он заходит в апсиду большого собора и выходит через его южные врата (миряне, как правило, передвигаются в обратном направлении). Случилось так, что именно в этом увиденном им во сне соборе Иоанну довелось потом прослужить всю свою жизнь {44} 44 Пастырь и его почитатели видели в этом явное предзнаменование Божие; коммунистические антицерковные пропагандисты усматривали здесь только циничный расчет. См.: Рожнов В. Е. Пророки и чудотворцы: этюды о мистицизме. М., 1977. С. 78–79.
. Иоанн женился на дочери протоиерея Константина Несвицкого, служившего в Кронштадте в Андреевском соборе — том самом, который ему приснился и в котором он прежде никогда не бывал. После венчания с Елизаветой Константиновной Иоанн был рукоположен в сан диакона, а в конце 1855 г. — иерея {45} 45 Житие святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца // Журнал Московской Патриархии. № 10 (1990). С. 59–60.
.
Сведения об этом периоде жизни о. Иоанна весьма скупы и представляют собой либо более поздние воспоминания, либо пересказ с чужих слов; однако после начала священнического служения появляется возможность приоткрыть завесу над внутренним миром о. Иоанна благодаря его дневнику. Подобно тому как преп. Антоний Великий рекомендовал монахам для духовного самосовершенствования записывать свои мысли и поступки, семинарские наставники призывали студентов вести дневники. Это правило оказывается крайне полезным после принятия священнического сана, когда возникает потребность неусыпного контроля за собственными словами и действиями, а также непрестанного духовного окормления прихожан {46} 46 Добротолюбие. Т. 1. Сергиев Посад, 1993. С. 23–24; П.Р. Важное значение дневника для приходского священника // Руководство для сельских пастырей. № 16 (1876). С. 475–488. О дневниках как ценных средствах духовного наблюдения см.: Практическое и нравственное значение богослужебных журналов, записей о внебогослужебных чтениях, пастырско-миссионерских дневников в деле высшего наблюдения за церковно-приходской жизнью // Санкт-Петербургский духовный вестник. № 42 (17 октября 1897 г.). С. 840–841.
. Дневник о. Иоанна — подлинная находка для постижения его внутреннего мира. Ведь характерное для батюшки понимание святости столь необычно, что неизбежно вызывает многочисленные вопросы. Было ли его стремление к святости сознательным? Если да, то насколько это стремление встраивалось в тот образ пастыря, который он создавал? В конце концов, как увязать стремление о. Иоанна к духовному совершенству, неотделимому от аскетического или монашеского образа жизни, с уделом семейного священника?
Дневники о. Иоанна раскрывают его понимание святости. Это неземное качество, по мысли пастыря, представляет собой своеобразный переход вовне, в окружающий его мир, напряженно и непрестанно развивающейся личной духовности. Представление о двух ипостасях священника способно существенно облегчить подобное понимание святости. Как и описанные Э. Канторовичем средневековые монархи, священник существует как бы в двух ипостасях: частной, занятой своим собственным спасением, и общественной, призванной окормлять паству. Многие христианские авторы, начиная с Иоанна Златоуста, с грустью отмечали неизбежное внутреннее противоборство между обеими ипостасями священнослужителя. И уж тем более — священнослужителя, стремящегося к святости {47} 47 Kantorowicz Е. The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957; К чему зовет нас святость о. Иоанна Кронштадтского // Константин, архимандрит. Чудо русской истории. Сборник статей, раскрывающих промыслительное значение Исторической России. Джорданвилль, 1970. С. 224–225.
.
Читать дальше
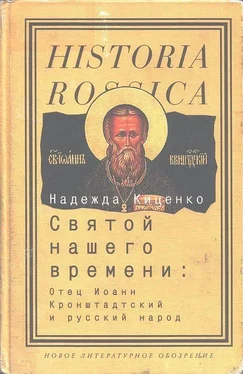
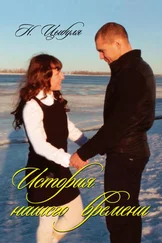
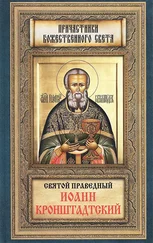

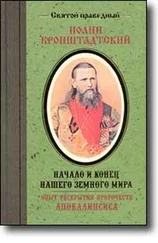
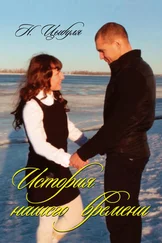

![Алексей Солоницын - Чудотворец наших времен [Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский]](/books/402293/aleksej-solonicyn-chudotvorec-nashih-vremen-svyatitel-ioann-arhiepiskop-shanhajskij-i-san-francisskij-thumb.webp)