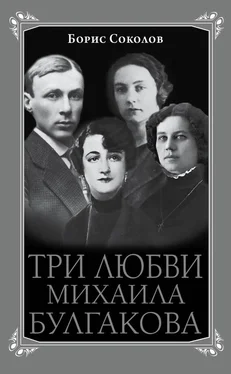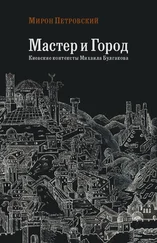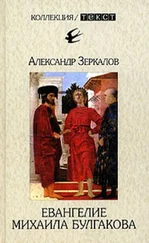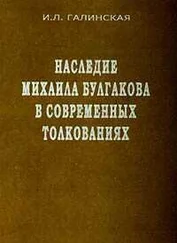Порой Булгаков прозревал свою посмертную славу. В частности, критику Владимиру Лакшину Елена Сергеевна рассказывала: «Во время последней болезни Михаил Афанасьевич однажды сказал: «Вот, Люся, я скоро умру, меня всюду начнут печатать, театры будут вырывать друг у друга мои пьесы и тебя будут приглашать выступать с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном платье, с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь: «Отлетел мой ангел…» – и мы оба стали смеяться, так неправдоподобно это казалось… А я, как вспомню это, не могу говорить».
Мучения Михаила Афанасьевича кончились 10 марта 1940 года. В этот день он скончался. О том, как умирал Булгаков, Елена Сергеевна подробно написала его брату Николаю в письме от 16 января 1961 года: «Люди, друзья, знакомые и незнакомые, приходили без конца. Многие ночевали у нас последнее время – на полу. Мой сын Женечка перестал посещать школу, жил у меня, помогал переносить надвигающийся ужас, Елена (сестра Булгакова. – Б. С.) тоже много была у нас, художники В. Дмитриев и Б. Эрдман (оба теперь умершие) каждый день приходили, жили Ермолинские (друзья), медицинские были безотлучно, доктора следили за каждым изменением. Силы уходили из него, его надо было поднимать двум-трем человекам. Каждый день, когда сменялось белье постельное. Ноги ему не служили. Мое место было – подушка на полу около его кровати. Он держал руку все время – до последней секунды. 9 марта врач сказал часа в три дня, что жизни в нем осталось два часа, не больше. Миша лежал как бы в забытьи. Накануне он безумно мучился, болело все. Велел позвать Сережу. Положил ему руку на голову. Сказал: «Свету!..» Зажгли все лампы. А 9-го после того, как прошло уже несколько часов после приговора врача, очнулся, притянул меня за руку к себе. Я наклонилась, чтобы поцеловать. И он так держал долго, мне показалось – вечность, дыхание холодное, как лед, – последний поцелуй. Прошла ночь. Утром 10-го он все спал (или был в забытьи), дыхание стало чаще, теплее, ровнее. И я вдруг подумала, поверила, как безумная, что произошло то чудо, которое я ему все время обещала, то чудо, в которое я заставила его верить, – что он выздоровеет, что это был кризис. И когда пришел к нам часа в три 10 марта Леонтьев (директор Большого театра), большой наш друг, тоже теперь умерший, – я сказала ему: «Посмотрите, Миша выздоровеет! Видите?» – А у Миши, как мне и Леонтьеву показалось, появилась легонькая улыбка. Но, может быть, это показалось нам… А может быть, он услышал?
Через несколько времени я вышла из комнаты, и вдруг Женечка прибежал за мной: «Мамочка, он ищет тебя рукой», – я побежала, взяла руку, Миша стал дышать все чаще, чаще, потом открыл неожиданно очень широко глаза, вздохнул. В глазах было изумление, они налились необыкновенным светом. Умер. Это было в 16 ч. 39 м. – как записано мной в тетради. Во время болезни я стала сначала записывать предписания врача, потом прибавилась полная запись дня, когда, какое лекарство принял, что ел, когда и сколько спал. Потом – его слова, потом, в последнее время его ухудшение состояния, – тяжелые минуты потери памяти (очень редкие), галлюцинации, и, наконец, подробные записи последних дней его страданий. Лицо его настолько изменилось от переносимых им страданий, что его почти нельзя было узнать. Я с ужасом думала – никогда не увижу Мишу, каким знала. А после смерти лицо стало успокоенным, счастливым почти, молодым. На губах – легкая улыбка. Все это не я одна видела, об этом с изумлением говорили все видевшие его.
А 4 марта на рассвете меня разбудила сестра милосердия и сказала: «М.А. зовет вас, хочет проститься». Я подошла, он покосился в сторону сестры, ожидая, что она догадается уйти, но она, отвернувшись к окну, не уходила. Тогда он проделал шутку, которая всегда смешила меня, как бы плюнул в сторону сестры, тихонько. А потом, сразу став серьезным, сказал мне прощальные слова, каких не говорил никогда. А уж чего я не слышала от него. Потом ему стало худо, и он отшатнулся, упал на подушку и стал холодеть и синеть у меня на глазах. Я взяла его голову и стала судорожно говорить ему, как мы скоро поедем с ним в Италию, как он там поправится, как хорошо ехать в вагоне, как ветер вздувает занавески… И он стал оживать и бормотать: «Еще, еще про занавески, про ветер».
И когда вечером пришел доктор, он сказал: «Вы знаете, Николай Антонович, я сегодня умирал у нее на руках и воскрес».
Простите меня, Николай, я знаю, что Вам тяжело будет все это читать. Но ведь я чувствую все время, что Вы ждете от меня рассказа о его последних минутах. Он умирал так же мужественно, как и жил. Вы очень верно сказали о том, что не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы, со своим невероятным талантом, жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание. Пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник – правдивый, честный. Писать он мог только о том, что знал, во что верил. Уважение к нему всех знавших его или хотя бы только его творчество – безмерно. Для многих он был совестью. Утрата его для каждого, кто соприкасался с ним, – невозвратима».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу