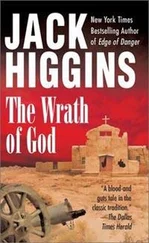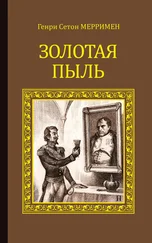Но случилось так , что первыми людьми,
проходившими утром следующего дня мимо церковного портала,
оказались
упитанный господин в черных лаковых штиблетах с гамашами
и зимнем пальто с меховым воротником
и с сияющей лысиной, не прикрытой, как ни странно,
на лютом морозе никакой шляпой,
и его восемнадцатилетняя дочь —
милое, кроткое, белокурое создание.
они задержались на мгновение перед окоченевшим трупом соловья
нахтигаля,
протягивавшего к ним с улыбкой руки,
наморщили лбы,
и, хотя все соседи без устали рассказывали про них,
как они всегда готовы помочь другим и как жертвуют собой,
они поспешно продолжили свой путь дальше.
Да, мне явно недоставало истинного авторитета. Трудности восстановления хозяйства в послевоенное время, требовавшие от поколения отцов полной отдачи сил, привели к тому, что подрастающие юнцы были предоставлены самим себе. Мы беспомощно озирались, потеряв ориентиры, а все, что происходило в обществе вокруг нас, внушало нам отвращение.
Первая издательница, встретившаяся мне на моем жизненном пути, была тощей, немного истеричной женщиной — я познакомился с ней за столиком в ресторанчике, завсегдатаями которого были мои родители. У фрау Ирены Зецкорн-Шайфхакен было небольшое издательство, в котором она продуцировала плохо изданную научно-педагогическую литературу, делая это исключительно ради собственного времяпрепровождения, поскольку у ее терпеливого и добродушного мужа была хорошо отлаженная фабрика. Фрау Зецкорн-Шайфхакен жеманно изображала из себя интеллектуальную даму в этом седовласом кругу, и я бы наверняка давно уже позабыл ее, если бы не проявленная чрезмерная доброта ко мне, многообещающему молодому человеку, которого она пригласила на один из своих воскресных литературных утренников на виллу супруга-фабриканта, где скучный профессор педагогики прочел доклад на тему «Авторитет — спасение для незащищенного сознания».
В моей памяти не осталось ничего, кроме самого названия доклада, но именно оно и стало для меня программным. Подлинный авторитет убеждает своими знаниями, достоверностью сказанного и проявлением себя как личности. Своей уверенностью он внушает чувство надежности, создает вокруг себя безопасное пространство посреди царящего хаоса и дезориентации. Мне захотелось стать таким авторитетом, олицетворяющим собой спасение!
Но серые будни этого городка не могли предложить подростку, отягощенному к тому же еще проблемами полового созревания, никаких идеалов для подражания или хотя бы наставить его на путь достижения заветной цели. Пустота и скука были лейтмотивами этой жизни, не авторитеты, а авторитарные требования со стороны семьи, учителей, взрослых давили на неокрепшее сознание подростков. И я, во всяком случае, реагировал на это самым неподходящим образом — замыкался, грубил и убегал из дома.
Сначала это происходило инстинктивно, эмоционально и неосознанно. Я не признавал больше учителей, не принимал «промывания мозгов» со стороны священника, вообще вел себя ужасно. Забросил учебу, вызывающе держался по отношению к любому так называемому достойному уважения человеку. Из первой школы меня выгнали за то, что на уроке истории при восклицании учителя «И это падение стало историческим фактом!» я подбил весь класс попадать со стульев. Вторую школу мне пришлось покинуть, потому что в контрольной по физике на тему баллистики я написал к вопросу о метании коротенький рассказик про песика и его маленькую собачку-подружку, где «физическая» проблема логично разрешилась «помётом». Официальное обоснование для исключения меня из школы гласило: «сексуальное извращение».
Я «вылетел за дверь», чувствовал себя потерянным и страдал от гнетущего ощущения, что «все же надо кем-то стать». Я беспомощно плыл во времени, бесцельно проводя дни, словно Нахтигаль — вымышленный мною художественный образ, с которым меня внутренне многое связывало. Но оказавшись за городом, я облегченно вздыхал, поднимал большой палец и уезжал «автостопом» куда подальше, и вся агрессивность моментально выветривалась из меня — я наслаждался свободой. Но приходилось возвращаться, и тогда бешенство переходило в депрессию и отчаяние и оборачивалось ненавистью к самому себе.
В перерывах между побегами из города, то есть главным образом зимой, я ходил в вечернюю школу, при этом давно уже не жил дома, а снимал маленькую чердачную каморку над крышами Мюльхайма и зарабатывал себе на жизнь тем, что разносил письма, нанимался разнорабочим на металлургический завод или стройку.
Читать дальше