Отчасти и так. Но то, что известно нам о дальнейшей жизни Ватто, дает основания полагать, что мучительная боязнь зависимости проявилась у него рано, очень рано. И вероятно, уже у Мариэтта он не умел радоваться легко и полностью. Что, кстати сказать, совершенно очевидно доказывается всем его искусством. Пока же приятные открытия обступают Ватто со всех сторон. Те имена, которые прежде видел он только под известнейшими гравюрами, звучат здесь как имена добрых знакомых. Иногда в лавку спускается и старый хозяин, Пьер Мариэтт «второй», полвека назад многократно преумноживший богатства фирмы, женившись двадцати одного года на сорокалетней вдове известнейшего торговца гравюрами Ланглуа, не убоявшись ни возраста невесты, ни необходимости воспитывать ее шестерых детей от первого брака. Дом полон воспоминаний и новостей; нередко новостью становится и предмет старины. Для молодого хозяина самым великим гравером был Альбрехт Дюрер, чьи листы составляли предмет особенного его внимания как коллекционера и, без сомнения, подолгу рассматривались и изучались хозяевами и гостями.
А сам Жан Мариэтт вслед за своим отцом предпочитал и гравировать, и заказывать ходкие, приятные для глаз и не слишком отягчающие мысль картинки, изображающие нарядные кавалькады, трогательных пастушков, театральные сценки. Это не мешает ему любоваться искусством серьезным и возвышенным. Как истого знатока, его приводят в восторг редкостные пробные оттиски гравюр, ценнейшие листы его собрания — эстампы с поправками, сделанными рукой самого Рубенса, который вскоре станет богом для Антуана Ватто. Были у него и рисунки старых итальянских мастеров, даже Тициана. Но, конечно, главным для Ватто была атмосфера подлинного и требовательного профессионализма, он слышал суждения и мнения, которые утончали его вкус и умение видеть. И понимать масштаб собственных возможностей, что всегда полезно, даже художнику, не склонному восторгаться собой.
ОТСТУПЛЕНИЕ: ОПАЛЬНЫЕ КОМЕДИАНТЫ
Политические мнения Ватто неизвестны. Само их существование сомнительно, источники позволяют скорее предположить, что Ватто был склонен к суждениям благородным, но не политического, а этического свойства. Вообще же он был молчалив и пространно никогда не высказывался. Даже об искусстве. Его окружал, однако, реальный и непростой мир, который если и не сам он, то его друзья старались понять и проанализировать, хотя бы в силу свойственной французам любви к четким и ироническим умозаключениям. Время само, более чем когда-либо, толкало к размышлениям.
Правда, и сам Ватто, и те, чьи речи он слушал в доме Мариэтта, судили о своем времени, более всего размышляя о событиях в Версале. Ведь то, что ученым историкам со временем справедливо представляется главным, обычно скрыто от глаз современников, и второстепенное, но занимательное и парадоксальное кажется куда более важным, чем глубоко скрытые исторические процессы. Сумерки уходящего царствования Людовика XIV все еще длились, и новый век никак не мог распроститься с веком ушедшим. Никто уже не помнил предшественника нынешнего короля, казалось, он всегда царствовал. Людовику XIV суждено было пережить не только сына, но и внука, лишь правнуку достался его трон. Все реже вспоминали о былом великолепии дряхлеющего монарха, о громких победах минувшего столетия, о стремительном возвышении Франции, заставившей трепетать Европу, все чаще говорили о двух с половиною миллиардах государственного долга, о том, как дряхлеет государь, которого еще продолжали называть Великим, о том, каким жалким становится некогда блистательный двор.
«Люди высших качеств, которых он сначала поощрял, стали ему под конец подозрительны, хотя и состояли на его службе; и так как он дошел до того, что не мог уже выносить ничего великого, если оно исходило не от него, то он окружил себя бездарными министрами и генералами и любил их именно за бездарность. Поэтому немного лет понадобилось ему для того, чтобы потратить средства нескольких царствований, так что когда, к концу, власть его стала так же необъятна, как и его гордость, ей уже не на что было опереться: не оказалось ни сильных умов, ни гордых характеров, ни отборных военачальников и министров, ни казны, ни армий; едва оставался народ. Власть была беспредельна и тщетна: ей недоставало опоры, орудий и даже жертв».
Луи Блан
«Беря от своих подданных больше, чем положено, государь истощает их любовь и верность, гораздо более необходимые для существования государства и сохранения его особы, чем золото и серебро, которые он сможет поместить в свою казну».
Читать дальше
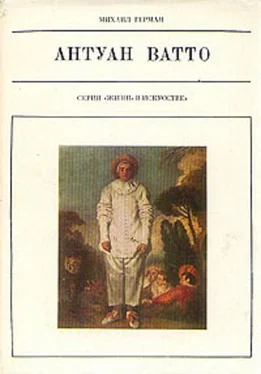
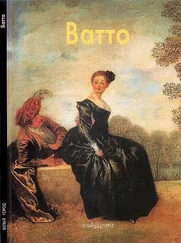
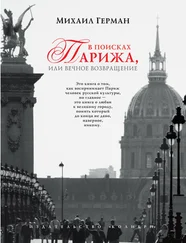






![Михаил Воскресенский - Герман ведёт бригаду [Воспоминания партизана]](/books/413195/mihail-voskresenskij-german-vedet-brigadu-vospomi-thumb.webp)


