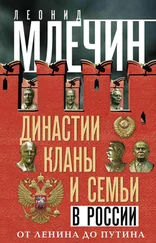Я глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду. Кивнув Манфреду, я увидел, как он спрыгнул и тут же исчез из виду. Секундой позже я тоже прыгнул в кромешную тьму.
11
ПАРИЖ, БАНЬЕР-ДЕ-БИГОР
(ноябрь — декабрь 1942)
В темноте пришла беда.
Пронзительный свисток вспорол ночь, послышался треск выстрелов. Я прижался как можно плотнее к земле, прислушиваясь к грохоту поезда, и не услышал ничего. Было абсолютно тихо. Поезд, очевидно, стоял в нескольких сотнях метров от места, где мы с Манфредом спрыгнули с него. Вновь раздались выстрелы в воздух. Я затаил дыхание, услышав шаги, быстро приближавшиеся к нам со стороны поезда, затем обрывки речи. Гневно говорили по-немецки:
— Давай искать…
— Попробуем…
— …здесь…
Прошло несколько минут. Прожектор, должно быть, уловил тень, оторвавшуюся от поезда, возможно, мою или Манфреда. А может быть, еще кто-нибудь попытался бежать. Не приведи Господь, чтобы из поезда, везущего тысячи обреченных человеческих существ, один-единственный еврей избежал немецких печей.
Проходили минуты — минуты, казавшиеся вечностью.
— Сюда! — раздался крик.
— Вы здесь смотрели? — послышалось в ответ.
Я искал место, чтобы спрятаться, какое-нибудь углубление в земле, куда можно было бы зарыться. Внезапно все стихло, не стало слышно ни звука. Ловушка? Я мог бы бежать, но, возможно, охранники затаились рядом. В Дранси младенцы умирали такими маленькими, что едва могли плакать. Что же они сделают со мной, попытавшимся соскользнуть с мощного конвейера лагерей смерти?
Наконец шум — не голоса, а какие-то металлические звуки вдали: лязг колес о рельсы, тяжелый грохот товарных вагонов, медленно и со скрипом приходящих в движение. Изможденный пройденным расстоянием, поезд двинулся вперед, угрюмо преодолевая оставшийся путь.
Пока поезд на Аушвиц не исчез в темноте и его грохот не поглотила полная тишина, я лежал в ласковых объятиях земли. Оказалось, что лежу я в мокрой канаве, в высокой траве. Я глубоко порывисто вздохнул и подумал о Манфреде, где он может быть. Немного пошевелив мускулами, чтобы убедиться, что нигде не болит, я снова надел берет на свою бритую голову. Я почувствовал себя потрясающе свободным, свободнее, чем когда-либо в жизни, но внезапно возник вопрос: свободным для чего? Свободным идти куда?
Мы с Манфредом нашли друг друга в темноте и пошли по тропинке, что вилась рядом с железнодорожным полотном. Руками содрали мы с отворотов наших курток обличительные знаки — желтые еврейские звезды.
Молча, все еще немного задыхаясь, шли мы в холодной ноябрьской ночи. Наша одежда насквозь промокла от травы и ужасно воняла после поезда. Мы опасались немецких охранников, которые могут вынырнуть из ниоткуда, чтобы покарать нас за дурацкую попытку убежать от своей судьбы.
Миновав несколько крестьянских хуторов, мы увидели впереди силуэты небольших домов — деревня. Мы не проронили ни слова. По пути не было света, даже в домах. Тишину нарушал только лай собаки в отдалении. Тут мы заметили узкий тротуар, проходящих мимо людей, и переждали, затаившись в тени. Затем мы подошли к булочной с окнами, закрашенными темно-синей краской — защита от ночных бомбардировок. Позади струился слабый свет.
Я постучал в дверь, и мы стали ждать. Ответа не было. Я постучал немного громче, боясь, однако, что любой шум в тишине ночи может разбудить не только булочника, но и всех в этом городе, где любой, в принципе, может выдать нас. Дверь открылась, и в ней появился угрюмый молодой человек в белом пекарском фартуке:
— До утра хлеба не будет.
— Мы не хотим хлеба, — поспешно сказал Манфред.
Мне хотелось, чтобы он сказал это потише, но и не слишком тихо. Слишком громко — начнутся проблемы; слишком тихо — возникнет подозрение, что мы что-то скрываем. Во время войны любой чужак внушает подозрение.
— Где мы находимся? — спросил Манфред.
— Недалеко от Мюсси, — ответил булочник. — Вы сбились с пути?
— Мы хотели бы узнать, где живет деревенский священник, — сказал я.
Молодой человек взглянул на тени на наших лицах и сказал:
— Минутку, я провожу вас к нему, — и захлопнул дверь.
Мы нервно ждали, пока он не появился снова, в куртке, накинутой поверх пекарской одежды. Мы миновали несколько домов; булочник — спокойно и молчаливо, мы с Манфредом тоже молчали, так как говорили по-французски с австрийским акцентом.
Когда мы подошли к ризнице священника, мне пришла в голову еще одна проблема: священнику обязательно нужно оказать почтение — снять головной убор. Но снять береты означает продемонстрировать наши бритые головы и тем самым объявить: я — беглец, я — еврей. Однако выбора у нас не было. В мире, где нельзя доверять священнику, остается только добровольно сесть на ближайший поезд, идущий в Аушвиц. В общем, мы доверились. Священник, мужчина средних лет, был совершенно ошеломлен, увидев нас.
Читать дальше

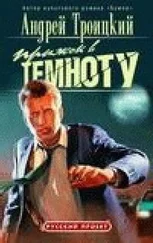
![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

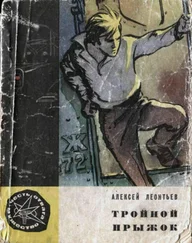

![Лео Перуц - Прыжок в неизвестное [Свобода]](/books/338003/leo-peruc-pryzhok-v-neizvestnoe-svoboda-thumb.webp)



![Николай Прохоров - Прыжок в темноту [Из записок партизана]](/books/413253/nikolaj-prohorov-pryzhok-v-temnotu-iz-zapisok-part-thumb.webp)