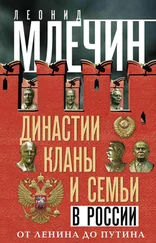В вагоне губы людей двигались, шепча молитвы. У восточной стены вагона стоял ортодоксальный мужчина, голову которому обрили, не тронув, однако, бороду. Его руки простирались к небесам, тело раскачивалось взад-вперед, и голос возносился умоляюще: «Оу, ribono shel olam» — «О Бог мой…»
— Если Бог позволяет такое… — пробормотал в ответ голос, едва слышный в громыхании поезда.
— Пусть молится, — возразил кто-то.
Мы были сообществом обреченных. Поневоле я вспомнил свою Бар-мицву восемь лет назад, как рабби Мурмельштейн возложил руки мне на голову и провозгласил: «Да благословит и сохранит тебя Бог». Что означали эти слова сейчас? Почему Бог не сохранял жизни всех этих невинных людей? В Германии сожгли синагоги, и Бог, должно быть, погиб в пламени. Я взглянул на женщину с костылем, пытавшуюся успокоить маленького мальчика, сидящего у нее на коленях. Малыш дрожал от утреннего холода. Он выглядел безучастным, погруженным в себя. Гладила ли мама в это мгновение Генни, или они были разлучены и их отдельно впихнули в жуткие товарные вагоны?
При движении поезд трясло, и это приносило своеобразное чувство облегчения. По крайней мере, нас не оставили здесь и не задушили. Мы могли чувствовать слабое дуновение утреннего воздуха из окна в передней части вагона. Мы двигались, и движение несло с собой более свежий воздух, и перемены, и кто знает что еще…
Я вспоминал свое детство, исчезнувшее в прежней, более надежной жизни, когда я мечтал о поездах, мчащих меня в неописуемо красивые места. Такие мысли казались сейчас ужасно наивными. Я слышал плач испуганных детей, обрывки разговоров — упреки себе, что не спрятались от полиции, догадки о будущем. Разговоры велись на французском, идише, немецком, на разных восточно-европейских языках и сливались здесь в единый хор обреченных на смерть. Многие молчали, устав, и, казалось, примирились со своей участью.
Мы с Манфредом стояли под окном слева в задней части вагона. Без сомнения, это был наш последний шанс. Вытянувшись вверх к окну, мы могли видеть сельский пейзаж Франции — деревья, птиц, сидящих на телеграфных столбах, виноградники, фермы и пасущийся скот.
— Окно, — сказал я.
— Когда?
— Перед тем как въедем в Германию, — ответил я. — Ночью, когда можно будет спрятаться в темноте.
— Вы о чем? — донесся под стук колес голос человека, смирившегося со своей судьбой. — Нельзя ни в коем случае…
— Вперед, смелее! — раздался другой.
— Вы можете погибнуть, пытаясь спрыгнуть, — сказал третий.
Вмешались другие голоса, все мужские, — никто не кричал, никто не настаивал. Это был ничего не значащий, разрозненный и случайный обмен мнениями, который никто пока не принимал всерьез. Побег? Ну что за ребячество! А что с другими, уже пытавшимися бежать, спросил кто-то. Ходили слухи о мужчинах, погибших при попытке спрыгнуть с поезда, или попавших под идущий мимо состав, или пойманных охраной и подвергшихся пыткам. Что мы мним о себе?
Ритмичный стук колес звучал как погребальная песнь, но одновременно успокаивал. Пока поезд двигался, мы были живы и могли попытаться бежать. Время и темнота могли стать нашими союзниками.
Старая женщина с костылем пристально смотрела на нас и гладила малыша, сидящего у нее на коленях. Она укрыла его своим пальто. Мальчику было четыре года; свою семью он больше не увидит. Женщина была седа, лет шестидесяти, одинока. Она не была знакома с малышом, пока судьба не свела их здесь случайно, и теперь, в последние часы их жизни, они стали друг другу единственной семьей.
— Если вы сбежите, — сказал какой-то мужчина, — они выместят это на нас.
— Что бы болтаете? — послышался хриплый голос другого. — Они нас так и так убьют.
— Зачем же тогда они дали нам квитанции за наши ценные вещи?
Даже сейчас некоторые верили в эту ложь. Я взглянул на Альберта, прислонившегося к стене. Он похлопал меня по щеке, как старший брат, пытающийся утешить. Все больше и больше голосов, все больше мнений раздавалось вокруг — каждый мнил себя экспертом. Пытаться бежать, не пытаться… Голова у меня пошла кругом от этого обилия слов. Я жаждал кусочка свободного места на полу, где я мог бы прилечь и поспать. Устало закрыв глаза, я услышал женский голос:
— Если вы спрыгнете, возможно, вы сможете рассказать нашу историю. Кто еще расскажет, что с нами произошло?
Я не знал, кто произнес это, но, подняв глаза, увидел старую женщину с мальчиком на коленях. Она, пристально глядя на меня пылающими глазами, указывала на меня костылем. Ей довольно было всех этих аргументов и опасений, и как библейский судья высказала она приговор. Из этого покалеченного тела, из этой отчаявшейся души, хранимой лишь мудростью лет, пришли окончательные слова.
Читать дальше

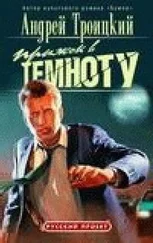
![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

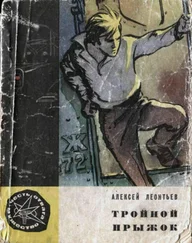

![Лео Перуц - Прыжок в неизвестное [Свобода]](/books/338003/leo-peruc-pryzhok-v-neizvestnoe-svoboda-thumb.webp)



![Николай Прохоров - Прыжок в темноту [Из записок партизана]](/books/413253/nikolaj-prohorov-pryzhok-v-temnotu-iz-zapisok-part-thumb.webp)