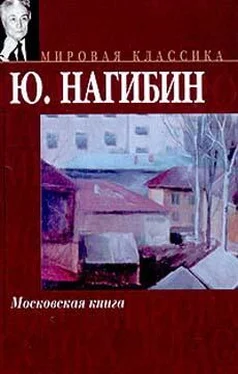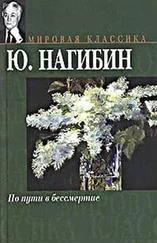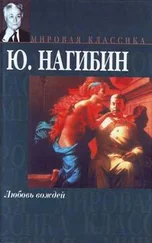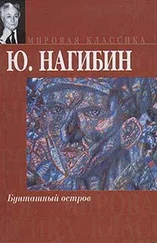Она положила мне на лоб свою прохладную, легкую, твердую руку, я заплакал от счастья и проснулся.
Был день, и солнце, и пустота комнаты, и мой короткий сон лишь немного приблизил час прихода Марии Владимировны. На несколько минут, удивительно долгих и емких, я уже в яви переживал очарование нашей встречи, слышал отзвук ее голоса, ощущал прохладную руку на лбу. Затем видение погасло, и я вновь погрузился в тревогу и надежду ожидания…
Это только во сне она могла говорить одна, как шекспировские герои. В жизни люди говорят по очереди. О чем буду говорить я? Наверное, ей будет интересно услышать про мою болезнь: беспамятство, черные камни, щенки, жизнь на потолке… Только бы не проговориться, что я заболел после поездки в Измайлово, надо будет и маму предупредить. Я простудился раньше и поехал в Измайлово уже больным. Я чувствовал ломоту еще в трамвае и потом все время был какой-то недоваренный. Меня продуло в Абрикосовском саду, где мы играли в футбол, вспотели, а потом поднялся сильный ветер, нагнавший первую в этом году грозу.
— Мама! — позвал я.
— Ну, что тебе? — спросила мать, входя и одергивая на себе серый, недавно сшитый костюм.
— Ой как хорошо! Тебе удивительно идет!.. Знаешь, мама, я понял, когда заболел.
— Когда вас таскали в Измайлово.
— Вот и нет! Раньше. В Абрикосовском саду.
— Не выдумывай!
— Честное слово! Я был весь потный, и тут этот жуткий ветер. А потом гроза, помнишь?
— Не сочиняй! Ты пришел до грозы.
— Конечно! Но уже простуженный. Меня всю ночь ломало.
— Зачем же ты поехал в Измайлово?
Клюнуло!
— Не надо мне было ехать! — сказал я сокрушенно. — Простить себе не могу!..
— Какой ты неосторожный…
Все: мать уверовала, что в Измайлово я поехал уже больным.
Мама ушла в темную комнату, оттуда свежо и крепко запахло духами, и это было как предвестие Марии Владимировны.
Вскоре она начала появляться — большой крахмальной скатертью, столовым серебром, извлекавшимся на свет Божий лишь в самых торжественных случаях, посудой, прибывшей из кухни на подносе, белейшим Верониным фартуком…
На крыше возникли голубятники, и мама по моей просьбе задернула шторы. Мягкий полумрак наполнил комнату, словно долгий майский день внезапно склонился в сумерки. В щель между шторами проник широкий и плоский, как бритвенное лезвие, луч и уперся в противоположную стену. По нему вверх-вниз заскользила радужная поперечная полоска.
Я закрыл глаза, решив открыть их не раньше, чем в этом луче возникнет Мария Владимировна.
— Ну, здравствуй, — скажет она.
Мне вдруг захотелось отодвинуть миг ее появления, уже заложенный в ячейку близкого будущего. Ведь, едва свершившись, этот миг тут же станет прошлым. Конечно, твое прошлое всегда с тобой: Акуловский сад, Уча, вспышки молний в стеклянном шаре над клумбой, «бабушка в окошке» и тяжесть биты в руке, девочка Ляля, поедающая шоколад, сатанинское обаяние Кольки Глушаева, но было бы куда лучше, если б все это мне еще предстояло.
«Помедлите, — просил я Марию Владимировну, — помедлите еще немного. У меня есть силы ждать, а когда их не станет, вы придете…»
Позже, когда луч, все смещавшийся в сторону двери, уже не пересекал комнату, оставшись мазком на подоконнике, я попросил маму раздвинуть шторы. За окном было еще много света и синевы, но я не дал себя обмануть. Голубятники покинули крыши, значит, настал прозрачный майский вечер.
— Мама, — сказал я, — ты точно уговорилась с Марией Владимировной?
— Ну, конечно, я уж тебе говорила.
— Но ведь не обязательно к обеду?
— Н-нет, но я так ее поняла.
— А может, она придет вечером?
— Перестань! — сказала мать. — Придет твоя Мария Владимировна. Не станет же она обманывать больного.
— А можно не убирать со стола? Пусть у нас будет ужин… И если хочешь, позови кого-нибудь. Только не Раечку. Позови художника, которого укусил Джек.
— Да мне никто не нужен, — сказала мать. — Есть хочется.
— А ты поешь… немного. А потом поужинаешь. Только ты не переодевайся, ладно?.. Мария Владимировна придет. Я ведь правда очень сильно болел. Митя Гребенников говорит, что я чуть не умер.
— Дурак он, твой Митя.
— Нет, он очень самобытный. — Мне вспомнилось, что так говорила Раечка о своем Али, когда его тоже называли дураком. — Все равно я очень тяжело болел и сейчас еще не выздоровел.
Много позже, когда за окнами еще брезжил свет, а в комнате стало совсем темно и мама зажгла настольную лампу, я сказал:
Читать дальше