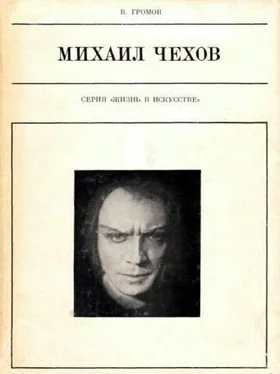Этот своеобразный эпитет становится особенно понятным, когда Чехов любовно описывает внутренний облик Сулержицкого, его неизбывную любовь к людям, нежнейшее отношение к детям. А если он был весел и смеялся, то сам становился похож на младенца.
Чехов хранил в себе подобные черты, и многие его метания и порывы, увлечения и ошибки, скромность, доходившая до конфузливости, и повышенная нервная восприимчивость ко всему окружающему, вероятно, были связаны с детскостью, пронесенной им, так же как и Сулержицким, через годы.
Эта двойственность натуры, поразительно роднившая Чехова с Сулержицким, может показаться со стороны свидетельством внутренней противоречивости и дисгармонии. Но было совсем не так: робкая детскость и могучая творческая воля, кажущаяся хрупкость и мощное воздействие на зрителей ни в чем не мешали друг другу. Они настолько сливались, что немыслимо было представить себе одно без другого. В этом неожиданном слиянии разных граней характера, в самой горячей, искренней любви к людям заключалась суть человеческой и творческой индивидуальности Михаила Чехова. Нести в себе эту сложность внутреннего строя было не легко. Не всегда, как мы увидим дальше, хватало у него сил сохранять душевное равновесие.
В театральной педагогике, нераздельно слитой с вопросами морали, творческое родство Чехова и Сулержицкого было также очень велико. Это чувствуется, когда читаешь слова Чехова о том, как ненавязчиво, просто Сулержицкий умел передавать студийцам самые глубокие творческие мысли. «Во время работы над “Сверчком на печи” Сулер раскрыл нам душу этого произведения Диккенса. Как он сделал это? Не речами, не объяснениями, не трактовкой пьесы, но тем, что сам на время работы превратился в диккенсовский тип, в Калеба Племмера, игрушечного мастера. Не думаю, чтобы он сознавал эту перемену в себе. Она произошла в нем сама собой, правдиво и естественно, как и все хорошее, что он делал. Его присутствие на репетициях создавало ту атмосферу, которая сильно передавалась потом публике и в значительной мере способствовала успеху спектакля».
Когда однажды Сулержицкий с покоряющей искренностью спел песенку Калеба для слепой Берты, Чехов почувствовал, что в его душе «растет и крепнет то, чего нельзя выразить никакими словами». Он понял, что сыграет Калеба, что уже любит его и Сулержицкого «всем существом, всем сердцем». «Все, что он (Сулержицкий. — В. Г.) делает, и вся репетиция проникнута атмосферой диккенсовской любви, уюта и юмора».
Эта атмосфера удерживала актеров вокруг Сулержицкого, несмотря на поздний час, и после репетиции. А когда, наконец, после ночного чаепития все расходились, Чехов оставался один с Леопольдом Антоновичем. Целую ночь они вырезали, клеили и красили игрушки для будущей декорации комнаты Калеба и без устали разговаривали на самые необыкновенные темы.
Совсем другим был Сулержицкий, когда репетировали «Праздник мира» Гауптмана. «Острый, нервный, проницательный, он, вместе с Вахтанговым, разбирал запутанную психологию “больных людей”, вводя нас в атмосферу пьесы», — пишет Чехов.
Во время работы над «Потопом» Бергера он проявил другую грань своего дарования — быстроту мысли, решительность действия, смелость педагогически-режиссерского приема.
«“Потоп” репетировался долго и не легко нам давался, — вспоминает Чехов. — Пьеса не имела явно выраженного стиля, не выявляла индивидуальности автора. Мы не знали, следует ли ее играть как драму или как комедию. И то и другое было возможно. Решили играть, как комедию, но юмор скоро иссяк, и репетиции проходили бледно, безрадостно. Пришел Сулер и сказал:
— “Потоп” есть трагедия. Со всей искренностью и серьезностью мы будем репетировать каждый момент, как глубоко трагический.
Через полчаса хохот стоял на сцене. “Потоп” как трагедия оказался невероятно смешон. Сулер торжествовал — он вернул нам юмор “Потопа”. Скоро пьеса была показана публике».
Прибавьте ко всему сказанному еще одну замечательную фразу Чехова: «Зло, которого Сулер сам никогда не боялся, всегда было смешным в его изображении».
Чехов заканчивает свои воспоминания так: «Сулержицкого называли толстовцем, но если это и было так, то он был толстовцем особого типа. Ни следа фанатизма или сектантства не было в нем. Все, что он делал хорошего, доброго, исходило от него самого, было органически ему свойственно... Все, что Сулержицкий усваивал со стороны, было ли то учение Толстого или система Станиславского, — все это он перерабатывал в себе и делал своим, никому не подражал, был во всем оригинален, своеобразен».
Читать дальше