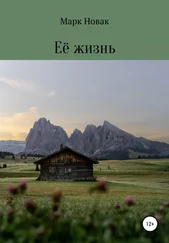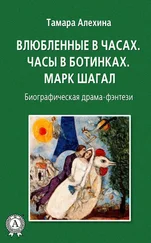Война помешала художнику вернуться в Париж после поездки в 1914 году на родину, но позже он будет благодарить судьбу за свое «пребывание в России в годы войны и революции, как и за пребывание во Франции в переломные для искусства годы» [63].
Во время войны, когда сбылись все грозные пророчества, окружающая жизнь более прямо входит в искусство Шагала. Он теперь сильнее ощущает, по словам Мейера, «реальность человеческого», соединяя в образах экспрессию с документализмом (часть произведений 1914–1915 годов он так и называл: документы). Как бы предчувствуя в будущем окончательный разрыв с родиной и разрушение векового уклада, спешит запечатлеть все, что «попадается на глаза»: виды Витебска, портреты близких, еврейских стариков. Война, прямо отраженная в графике, в живописи воплощается в метафорических образах бездомного странника, символа всех еврейских и нееврейских беженцев XX века, разносчика газет — вестника беды, а также еврейского кладбища с пророчески открытыми, как бы приглашающими новых обитателей воротами. Параллельно звучат мажорные темы природы, творчества и любви. Союз с Беллой становится символом союза мужчины и женщины. Он означал для Шагала не просто один из аспектов человеческой жизни, но нечто, лежащее в самой сердцевине бытия, и подобный взгляд имел глубокие национальные корни. Начиная со средневековья присутствие Бога в мире — Шехина — воспринималось как проявление его женской ипостаси, благодаря чему признавалась изначальность разделения полов. Русский философ С. Булгаков писал, что «Шехина, соответствуя женскому началу в божестве, есть, так сказать, субстанция женственности, которую благочестивый иудей имеет в своей жене». Отсюда, по его словам, «апофеоз земного брака и священного деторождения» [64].
У Шагала подруга мужчины всегда содержит в себе нечто ангелическое, а ангелы часто наделяются женскими чертами. Любовь преодолевает дуализм и разобщенность мира, как бы искупая грехопадение. Она объединяет влюбленных в подобие изначального андрогина и при этом несет в себе творческое начало (возлюбленная художника — его муза), обладая, как и творчество, способностью возносить над обыденностью.
Таковы знаменитые полотна 1910-х годов с изображениями влюбленных, поочередно поднимающихся в воздух, чтобы совершить наконец вдвоем полет над Витебском. Полет, в котором мечтательная устремленность к небу неотделима от страстной привязанности к земле, причем «земля» и «небо» несут в себе многозначный смысл, обозначая также низшие и высшие аспекты бытия.
Сила, столь решительно отрывавшая в 1917 и 1918 годах героев Шагала от земли, была, однако, не только силой любви и творчества. Позже он скажет, что оказался целиком захвачен зрелищем идущего из глубины порыва, который принесла с собой русская революция. Она не могла не быть близкой Шагалу, как выходцу из черты оседлости («Моя первая мысль, — напишет он в книге, — я не буду больше иметь дело с паспортистом»), как сыну рабочего и наконец как художнику, для которого народное начало было важным и в духовном, и в эстетическом плане, и в чьей поэтике доминировал революционный, по существу, принцип «выхода за пределы». С годами он уяснит все различие между революцией политической — несущей тотальное разрушение, и духовной — созидательной, и наиболее прямо воплотит это различие в картине «Революция» (1930–1937).
Толпы людей, охваченных агрессивно-разрушительным порывом, и Ленин, делающий стойку на руке, олицетворяя с чисто шагаловской прямотой дух политических переворотов, будут противопоставлены здесь любимым персонажам художника: влюбленным, музыкантам, животным, а также погруженному в раздумье старику со свитком Торы в руках — символу духовного действия. Репродукции этой картины стали главной причиной того, что некоторые издания, посвященные Шагалу, на долгие годы попали в «спецхран». Однако сама картина к тому времени уже давно не существовала. Шагал как бы вынес идею революции за скобки собственного творчества, переписав в 1940-х годах полотно (и разделив его при этом на три части). Фигура Ленина в новом произведении была заменена фигурой распятого Христа, ибо, по мысли художника, подлинный переворот достигается только ценой жертвенной любви, духовного усилия и страдания.
Однако в 1917 и 1918 годах он пока еще «слушает музыку революции» и воплощает ее ритмы, ее оптимистическую устремленность в будущее. В статьях, опубликованных в Витебске в 1918 году, мечтает о том, чтобы дети городской бедноты приобщились к искусству, которое создается в коллективе, не стирающем творческих индивидуальностей. «Искусство, — пишет он, — жило и будет жить по собственным законам. Но в глубине своей оно проходит те же этапы, которые проходит все человечество, продвигаясь к наиболее революционным достижениям. И если верно то, что только в настоящий момент, когда человечество, вступая на путь последней революции, может быть названо Человечеством с большой буквы; точно так же и еще в большей степени искусство только тогда может называться Искусством, когда оно революционно по существу» [65].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
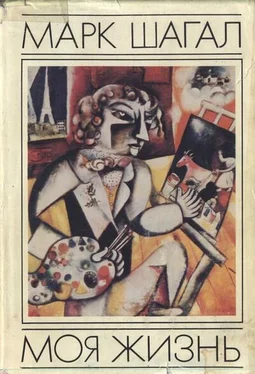
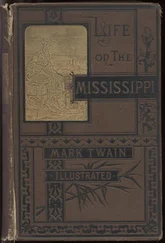
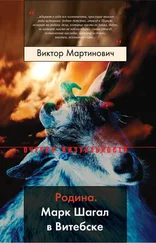
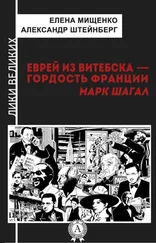



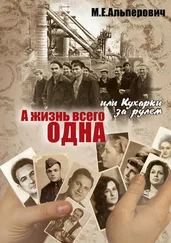
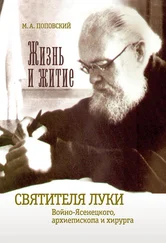
![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/402268/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche-thumb.webp)