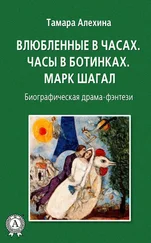Родственники молились в синагоге и играли на скрипке «как сапожники», но от этого не менее проникновенно. Тетки, как всерьез сказано в книге, порой взлетали над рынком, и удивленные обыватели спрашивали: «Кто это летит?» [55]Шагал описывает будни и праздники в родном доме. В день Йом-Кипура отец, сидящий за столом, превращается в его воображении в постоянно ожидаемого пророка Илию; он нюхает табак и призывает к тишине во время молитвы. Из этого видения позже родится картина «Понюшка табаку», а уже живя в Петербурге, художник столь же явственно увидит ангела, влетевшего в проем потолка, и впоследствии изобразит его в картине «Явление».
Религиозное чувство достигает кульминации в Судный День, когда свечи устремляются к небу, а небо — к земле, и молятся не только люди, но и дома, и деревья. Эти страницы книги, напоминающие описание «праздника Торы» у Шолом-Алейхема или христианской Пасхи в стихотворении «На Страстной» Бориса Пастернака, приоткрывают источник мировосприятия и самого художественного стиля Шагала — религиозную в своей основе национальную культуру.
На протяжении веков иудаизм сохранял главные свои особенности: преобладание мифологии не священного космоса, а истории народа, ощущение бесконечной удаленности трансцендентного Бога и его постоянного присутствия в человеческой жизни; наконец, понимание мира как текста, воплощающего божественное Слово. Человек занимал в этом мире центральное место, но чтобы «ходить под Яхве», он должен был выйти из инерции своего существования. В реальной истории этот «выход» проявлялся в постоянных скитаниях «избранного народа», в «исходе», но также — в религиозном экстазе.
В середине XVIII века в Восточной Европе возникло новое религиозно-мистическое учение — хасидизм [56]. (Слово «хэсэд» на древнееврейском означает «милосердие», «любовь», а «хасид» обычно переводится, как «любящий Бога».) Наследник древних верований и средневековой Каббалы, хасидизм во многом противостоял официальной религии с ее начетничеством и духом уныния, порожденным веками рассеяния и угнетения. Он говорил на языке понятных народу притч, повествовательных и метафоричных, учил, что Бог проявляется в обыденных вещах, что ему угодны не рассудок, а чувство, и не уныние, а радость, и что познать его дано только взволнованной душе. Хасиды придавали большое значение музыке, пению и танцам, помогавшим верующим достичь экстатического состояния, и ввели в культ элементы карнавала. Восходящая к Каббале хасидская легенда (она как бы прямо соотносится с искусством Шагала) гласила: Бог создал мир в виде сосуда, наполненного благодатью, не выдержав которой, сосуд разбился, но все разлетевшиеся в стороны осколки продолжают нести в себе частицы божественного света и добра…
С конца XVIII века Витебск стал одним из главных центров хасидизма. И хотя Шагал ни разу не упоминает в своей книге это слово, черты, присущие хасидизму — и иудаизму вообще, — ясно различимы в шагаловском радостном восприятии жизни, поразительной экспрессии образов, в прямом соотношении в них «земли» и «неба», обыденного и священного, наконец в неповторимом сплаве юмора и окрашенного печалью лиризма [57].
Уже не в праздник Судного Дня, а в обычный день художник бродит по улицам Витебска и молит Бога, который «скрыт в облаках или прячется за домом сапожника», научить его видеть мир по-новому, и в ответ город разрывается, как струны скрипки, его обитатели поднимаются в воздух, а краски на холсте смешиваются, превращаясь в вино…
Однако чтобы стать художником, предстояло не только научиться видеть, но также — войти в конфликт с культурной традицией, частью которой Шагал ощущал себя.
Заповеди Моисея запрещали «делать изображение того, что на небе… на земле… и на воде» [58]. На протяжении веков «иконоборчество» иудаизма препятствовало развитию еврейского изобразительного искусства, что не мешало, впрочем, существованию изображений животных. Предок Шагала, Хаим Бен Исаак Сегал, украсил ими в XVIII веке синагогу в Могилеве, а в творчестве самого художника они будут играть поистине огромную роль. Кроме того, в сборники пасхальных легенд и предписаний — агад — издавна включались композиции с фигурками людей. С конца прошлого века освободившиеся от религиозных запретов евреи нередко становились крупными живописцами или скульпторами и вливались в русское и европейское искусство. Шагал отличался от них всех тем, что сумел стать художником не вне, а внутри национальной религиозной традиции, как бы преодолев изнутри ее иконоборчество. Надо сказать, что в этом он также следовал национальной традиции — той, которую философ Вл. Соловьев определял как «веру в невидимое и одновременно желание, чтобы невидимое стало видимым, веру в дух, но только в такой, который проникает все материальное и пользуется материей, как своей оболочкой и орудием» [59].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
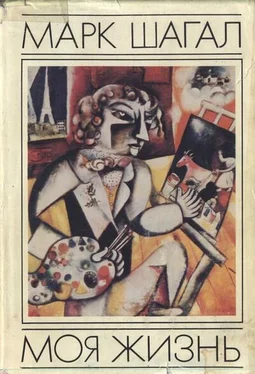
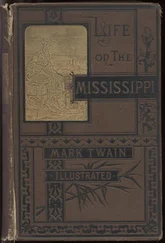






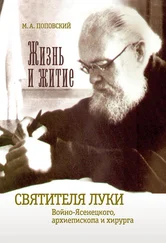
![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/402268/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche-thumb.webp)