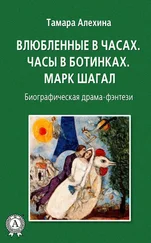Наряду с большими полотнами, посвященными союзу с Беллой, и такими картинами, как «Ворота еврейского кладбища», — панно для Еврейского театра было самым монументальным из того, что Шагал создал, вернувшись на родину. Уже после второй мировой войны он выполнит — в новом стиле и с новым размахом — монументальные произведения, предназначенные для синтеза с архитектурой: цикл живописных полотен «Библейское Послание» для музея в Ницце, плафон для парижской Гранд Опера, панно для Метрополитен-опера в Нью-Йорке и театра во Франкфурте, а также грандиозные серии витражей для храмов и общественных зданий, керамические панно, мозаики и гобелены. Но всему этому будет дано осуществиться уже не на российской почве. Работа в театре исчерпала для художника возможности приложения сил на родине. Он чувствовал себя чужим не только «правым» с их академизмом, но и «левым» (казавшимся ему вторичными по отношению к французам) с их беспредметностью и техницизмом. Если в царской России он был изгоем, принадлежа к самым угнетенным из «инородцев», то советская не нуждалась в нем в силу марксистских догм. Продолжать жить в ней значило для него — потерять душу; между тем в Париже его ждала «мастерская, полная неоконченных холстов», а в Берлине — полотна, оставленные после выставки 1914 года. И через несколько месяцев занятий с беспризорными еврейскими детьми в Малаховке под Москвой Шагал покидает родину.
В «Моей жизни» речь идет о событиях, временны́е пределы которых очерчены самим автором, как рубеж 1880–1890-х годов (первые воспоминания о детстве) и 1922 год (дата, обозначенная, как и место действия — Москва, в конце книги). За этот период изменился весь мировой уклад и произошел не менее глобальный переворот в искусстве, сравнимый с тем, что имел место при переходе от средних веков к новому времени (при том, что вектор художественного развития теперь был направлен как бы в обратную сторону). Что касается Шагала, то созданное им тогда оказалось непревзойденным по своеобразию, дерзкой парадоксальности и остроте образов. И все же в контексте всего его творчества это был лишь этап, за которым последовали и новые темы, и метаморфозы стиля (вбиравшего в себя классическое наследие), и новая глубина постижения реальности. Если в юности художник подчеркивал контрасты сущего, то в дальнейшем наряду с контрастами все громче стал звучать мотив единства мира, основой которого является любовь. Шагал 1930-х годов и послевоенных лет — это прежде всего великий художник Библии и мастер, реализовавший в нашем веке мечту Родена об «искусстве соборов». Его стиль обретает свободную живописность, а палитра — новую красочность и светоносность.
На протяжении своей долгой жизни Шагал не раз давал интервью, писал статьи, стихи и стихотворения в прозе, примером которых может служить текст к «Цирку». Есть сведения, что он продолжал писать и автобиографические заметки, и не исключено, что они когда-нибудь «выплывут» на свет вместе с автографом «Моей жизни». И все же во всей полноте связь со словом выплощалась не в литературных произведениях, которые были для художника во многом лишь комментарием к изобразительному творчеству, — а в самом этом творчестве. Подобно тому как библейский Демиург сотворил из Слова весь зримый мир, так и в работах современного мастера пластический образ являлся не подобием реальности, а материализацией поэтической идеи о ней. Изображения имели внутреннюю вербальную структуру, а порой и внешне уподоблялись букве, в их композицию в качестве полноправного элемента постоянно включались надписи. Во всем этом находила реализацию тенденция всего искусства XX века к сближению изображения и слова, но, кроме того, — присущий еврейской культуре пиетет перед Книгой, перед написанным текстом.
Отсюда — та поистине исключительная роль, которую играла в творчестве Шагала книжная иллюстрация. Как художник книги он был ближе к Пикассо, чем к Матиссу или Фаворскому, ибо почти не интересовался ее оформлением как художественного целого, и сосредоточивал все свое внимание на иллюстрациях, которые после их создания часто существовали независимо от книги. Образ за образом и почти слово за словом Шагал переводил — нередко в сотнях листов — литературные произведения на язык графики: «Мертвые души» Гоголя, «Басни» Лафонтена, Библию, «Декамерон» Боккаччо, «Дафниса и Хлою» Лонга, «Одиссею» Гомера, а также современную поэзию и прозу. Масштабы дарования позволяли ему проникнуть в глубинную суть чужого творчества, но они же обусловливали неповторимо шагаловский характер образов. По сути дела художник интерпретировал литературу точно так же, как окружающую действительность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
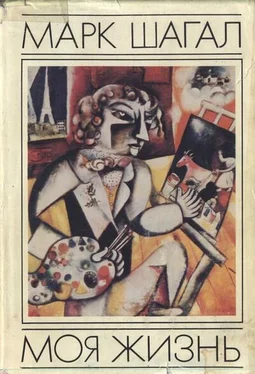
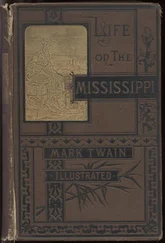






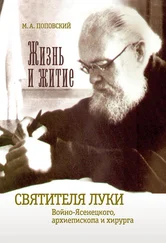
![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/402268/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche-thumb.webp)