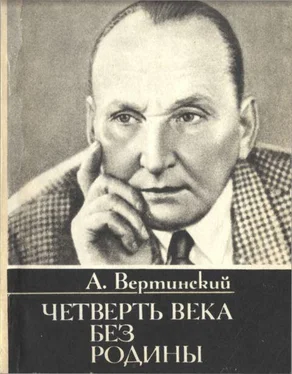Именно там в 1927 году, в Париже, я увидел Вертинского, но уже не загримированного под Пьеро, а человека в обыкновенном костюме.
Вертинский сам говорил, что у него нет голоса (кстати, так же как у Ива Монтана), но он обладал искусством выразительного жеста. Это позволяло ему без грима, мгновенно создавать образ — то светского хлыща, то капризной и глупой дамы-щеголихи, то мечтателя, то бродяги-поэта. В его песенках была легкая ирония, он забавно высмеивал пустых фатов и ветреных модниц, мечтал о голубых полярных льдах, о пальмах тропиков, о звезде среди миров мерцающих светил. Не все песенки были сочинены им самим, но в собственных его стихах встречались интересные поэтические образы. Но он, конечно, не пел, а «сказывал» стихи. Недаром Шаляпин, очень скупой на похвалы, на подаренном Вертинскому снимке сделал теплую надпись, назвал его «сказителем». Главной особенностью исполнения Вертинского было то, что его песенка была своеобразной театральной пьеской, которая длилась две-три минуты, и блестяще разыгрывалась талантливым актером.
Еще в 1927 году Вертинский говорил автору этих строк, что ему душно и тяжко в эмиграции, на чужбине, что ему отвратительна его публика — господа, которые все еще верят, что им вернут их имения, заводы, дома.
В Варшаве он просил полномочного представителя СССР Петра Лазаревича Войкова разрешить ему вернуться на родину. Вертинский любил свою родину, любил Киев, Украину, и даже в те годы, когда он был на Западе модным певцом и граммофонные пластинки с записью его песенок расходились тысячами, он скучал по родной стране, томился и создал тогда простую и искреннюю песенку «В степи молдаванской». С чужого берега, «сквозь слезы» он глядел на родную землю…
А. Н. Вертинский вернулся на родину в 1943 году, когда еще продолжались жестокие битвы с гитлеровскими захватчиками, и здесь ему пришлось держать трудный экзамен перед зрителями. То, что было в его песенках от эстетства, искупалось блеском исполнения; он мог выступать с таким репертуаром только потому, что был талантливым, единственным в своем жанре артистом. У Вертинского было подкупающее зрителей чувство собственного достоинства на эстраде. Он не заискивал перед публикой, не ждал аплодисментов, не посылал в публику улыбок. Он знал, что в зале немало людей, считающих его жанр безыдейным и пустым, но вот кончался концерт, и они уходили, удивленные его исполнительским мастерством.
В последние годы жизни артист покорил даже своих недоброжелателей, с успехом сыграв несколько ролей в кинофильмах. Он превосходно владел лицом, жестом, каждым движением, и это помогло ему на экране. Он владел искусством перевоплощения, мы видели его то кардиналом в «Заговоре обреченных», то князем в фильме «Анна на шее», то венецианским дожем, то польским вельможей. Он был превосходен в гриме французского генерала, но сыграть эту роль в фильме «Олеко Дундич» ему уже не пришлось.
Режиссеры, операторы, киноактеры с удивлением и восхищением наблюдали его работу на съемках. Точность его жеста была изумительной.
— Я поднимаю мой бокал… — произносил Вертинский и поднимал воображаемый бокал так, что зрители видели его, видели, что он держит бокал так, чтобы не расплескать налитое до краев вино.
Вертинский много ездил по стране. В номере гостиницы перед концертом — в знойном Ташкенте, на метельном Сахалине, в осеннем дождливом Ленинграде — он не сидел без дела: писал мемуары, киносценарии, письма друзьям, — писал об искусстве, о только что прочитанной книге или просто о впечатлениях от того края, куда его привела судьба странствующего артиста. Он вел скромный, трудовой образ жизни, не очень любил засиживаться до поздней ночи, не любил нетрезвых собеседников. Он знал, как пагубен для человека искусства богемный образ жизни, и предостерегал молодежь, показывая пример точности и добросовестности в работе.
Автор мемуаров был интересным, остроумным собеседником. Литераторы и актеры любили слушать его рассказы о скитаниях, необычайных встречах, — почти все это вошло в воспоминания. Артистический талант, мимика, жест делали его рассказы особенно забавными, увлекательными, остроумными.
Теперь, когда мы уже не видим афиши с именем Вертинского, можно подвести итог его сложной жизни. Первая ее глава окончилась в Октябре 1917 года. Другая глава неотъемлема от агонии русской эмиграции за рубежом и в то же время проникнута искренней грустью по утраченной родине. Последние четырнадцать лет Вертинский жил на родине и работал в полную силу, отдавая искусству всего себя.
Читать дальше