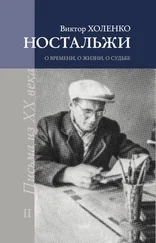— От вас зависит судьба нашей революции, мсье Блюм, и вы не должны войти в историю как ее палач. Вы же социалист! За вами такое же большинство во Франции, как за нами в Испании, и судьба социализма у вас целиком зависит от исхода нашей борьбы, — очень серьезно поддержал второй делегат. — Я говорю не об общности нашей культуры вообще, а о французской и испанской демократии: будьте Блюмом, а не Тьером, мсье!
— Довольно истории! У нас фронт, нам не до парламентских речей! — поднимаясь, грозно зарычал рабочий. — Оружие! Дайте нам оружие!
Сутулая и долговязая фигура в черном вскочила с кресла и попятилась назад. На лбу мсье Блюма показалась испарина, с носа свалилось пенсне, а моржовые усы обвисли больше обычного, он драматически вскинул в воздух руки.
— Господа! Спокойствие! Знайте: я не могу этого сделать! Дать распоряжение об открытии границ — означает сделать первый выстрел во французской гражданской войне. Господа! Я не могу быть причиной гибели тысяч и тысяч людей. Не требуйте от меня невозможного! Поймите: социализм — это мир!
Сверкая глазами, испанцы вскочили с мягких кресел. Они были вне себя от ярости.
— С кем мир? — закричали все трое разом. — Мир с фашизмом! Это сговор с ним! Предательство! Перед вами события в Испании и Франции — вам этого мало? Или вы ждете, пока французский Франко позовет на помощь Гитлера и Муссолини?
Делегаты окружили хозяина и стали теснить его назад.
— Терпение! — сильно побледнев и пятясь к стене, кричал мсье Блюм, — терпение! Заклинаю, умоляю вас, терпение! Это единственно разумная политика. Я со всех сторон слышу: лучше Гитлер, чем Блюм!
Испанцы заскрипели зубами.
— От кого слышите? От капиталистов? Их надо бить, а не слушать! Вы говорите: терпение! А мы — «No pasaran! Pasaremos!»
Загнанный в угол, мсье Блюм для защиты поднял руки, его рот перекосили рыдания.
— Вы душите нашу и вашу свободу!
— Вы изменили делу свободы!
— Вы пятнаете себя народной кровью!
С искаженными лицами бросали испанские делегаты свои обвинения в лицо мсье Блюму, и неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в элегантный салон социалиста и богача не ворвалась его супруга. Его верная вторая половина давно уже подслушивала за дверями, когда накал страстей достиг высшей точки, она прорвала окружение, обняла мужа, защитив его своим телом, и гневно закричала делегатам:
— Как вы смеете так волновать моего мужа?! Стыдитесь! Позор! Вы — не испанцы!
На груди героической дамы мсье Леон Блюм рыдал как ребенок. Смущенные и подавленные делегаты, опустив головы и сгорбившись, молча напяливали в передней свои плащи. В это время горничная доложила еще об одном просителе, который давно дожидается, имеет на руках рекомендательные письма и заявляет, что не уйдет, не поговорив с лидером социалистической партии и премьер-министром Франции.
Это было ужасно, но мадам Блюм опять показала себя достойной супругой: вытерев слезы и лицо мужа, она ласково прошептала: «Мужайся, милый! Нет жертвы, которую бы не стоило принести ради Франции и социализма!»
Мадам Блюм решительно вышла в переднюю, чтобы взглянуть на назойливого гостя. Им оказался не кто иной, как Гайсберт ван Эгмонт.
— Говорите покороче, мсье. Очень прошу, мсье Блюм весьма нездоров.
Но беседа неожиданно затянулась.
Хозяин, чтобы отдышаться и прийти в себя, вынужден был выслушать обличительную речь художника. Затем он вскочил, слегка пригладил седые волосы, поправил на носу пенсне, кашлянул и разразился ответной речью. Это была естественная реакция: нервы человека, всю жизнь прожившего в обстановке утонченного и прекрасного, вдруг не выдержали, испанцы выбили мсье Блюма из привычной колеи, он стыдился своих слез, и вдруг судьба послала ему возможность показать себя с лучшей стороны. Показать себе самому, супруге, горничной, посетителю и миллионам незримых слушателей. Старый парламентарий вышел на середину салона той походкой, которой он всегда выходил на трибуну, и произнес красивую речь, наполненную множеством цитат, исторических справок, чрезвычайно красноречивых цифр, редко встречающихся фактов, остроумных характеристик и широких исторических обобщений. Логика мсье Леона Блюма всегда отличалась запутанностью, но говорил он истово и энергично, размахивая руками, как будто бы цепами молотил зерно, его глаза оставались полузакрытыми: он наслаждался, слушая самого себя. Мадам Блюм, сидя в кресле справа, восхищенными и круглыми глазами смотрела на мужа и энергично кивала головой. Времена были беспокойные, и почтенная матрона не слышала ни единого слова, она и не слушала, мадам в это время тщательно обдумывала множество мелких бытовых вопросов и вопросиков, которые всегда имеются в каждой семье. Налево от оратора в кресле горбился ван Эгмонт, он первые полчаса еще пытался возразить, вторые — только следить за мыслью говорящего, но руки-цепы размеренно колотили его по голове, в конце концов, художник стих. Резкие черты лица расправились, он покорно опустил голову на руки и закрыл глаза. Это было понятно: чтобы заработать на сегодняшний обед, он всю ночь трудился над плакатом, изображающим лучший в мире сапожный крем «Мечта». Ему временами мерещились баночки с кремом, потом он слышал вой зверей, и казалось, что он бродит у костра, а двадцать три человека лежат рядом и не знают, что это их последняя ночь. Ван Эгмонт вздрогнул и очнулся. Девичий голос над его головой кричал:
Читать дальше