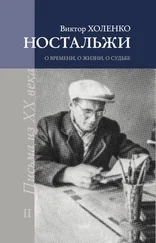Пигмейские женщины ростом немного выше метра. На спинах они несли хворост и снедь в виде корзин метра в полтора вышиной. Такое возвращение было странным зрелищем. Движутся зеленые тюки, из которых внизу торчат короткие ножки, и эти тюки весело поют!
Еще издали я увидел, что мой мешок стоит под раскидистым деревом, как стоял. Все было в порядке. Только охрана сбежала: оба охотника сидели у одной из хижин и делали луки и стрелы. Дети толпились вокруг и наблюдали. Это был наглядный урок: ребята учились. Их ожидала трудная жизнь.
После прихода началось приготовление пищи. Костры ярко запылали, к жару сбоку пододвигались аккуратные зеленые пакеты с начинкой. Я смотрел на медленно пропекающиеся свертки, внешне похожие на то, что в России называется голубцами, только начинка была здесь особая, африканская. Запеченных улиток и лягушек я ел в Париже, сырое мясо и живых устриц — в Берлине, в Конго испробовал голод в лесу, ел корни, плоды, охотился голыми руками и удовлетворял голод полуобгорелым мясом. Не кажется ли мне теперь, что полуобнаженная дама в Париже с лягушечьей ножкой на вилке менее естественна, чем совершенно обнаженная пигмейка в Итурийских дебрях с такой же лягушачьей лапкой, но только без вилки, прямо в руках? Разве только там эта ножка обжарена на сливочном масле и в сухарях, а здесь обгорела прямо на костре… Все условно и все относительно.
Молодая мать, едва свалив тяжелую ношу перед своим шалашом, вынула из зеленого гнезда спавшего там ребенка и стала кормить грудью. Стоя за деревом, я долго смотрел на нее и не мог оторвать глаз. Нас отделяли два метра расстояния и тысячелетия…
Это существо по росту и пропорциям казалось ребенком и вместе с тем было красивой женщиной — по формам, деликатным и миниатюрным. Что-то извращенное и притягивающее было в этом ребенке-женщине и в то же время бесконечно трогательное в девочке-матери. Большая лохматая голова поражала диким и грубым лицом с низким покатым лбом, приплюснутым треугольным носом и узкими красноватыми губами. Эта непропорционально большая голова обезьяноподобного животного казалась чужой на таком хрупком и таком человечьем теле. Существо что-то ласково мурлыкало и прижимало к груди непропорционально большого для него ребенка, поскольку до десяти-тринадцати лет пигмеи растут нормально. Ребенок был болен, и рой мух назойливо вился над ним. Иногда маленькая мать поднимала голову и вскидывала глаза вверх — такие человеческие, полные любви и скорби.
Я стоял и смотрел через глубины тысячелетий на это фантастическое существо, похожее одновременно на девочку, мадонну и обезьяну… Видение из предыстории человечества.
Издали сквозь шум леса и вопли обезьян донеслись звуки песни, мужчины возвращались!
Они ввалились на поляну оживленной гурьбой. Каждый нес на плече палку с наткнутым на нее огромным куском мяса. Мясо было гнилое, и спертый воздух на поляне сразу наполнился сладковатым зловонием.
Свидание с Бубу было полно улыбок, взаимных похлопываний по плечу и приветливых пощелкиваний языком. Я сказал, что, когда еда будет съедена, я закончу пиршество раздачей соли и других подарков. Бубу согласился и принялся командовать.
Он сам и большинство воинов имели железные ножи, выменянные у негров на слоновые бивни. Куски мяса были ловко разрезаны на тонкие ломтики и положены на горячую золу. Пакеты из листьев с полупропеченной снедью скреплены палочками и перевернуты на другой бок. Все готово! Тогда Бубу дал сигнал к купанью.
Все становище бросилось к голубой лагуне. Мужчины отошли в один конец, женщины — в другой. Первые сорвали пучки травы, подвешенные на лианке под животом, и полезли в воду голые; женщины вошли в воду и только под водой выдернули траву из-за поясков. Началось чинное мытье — натирание тела песком и очищение мочалками из листьев, когда с гигиеной было покончено, то в группах вспыхнули шалости и игры. Все брызгались, ныряли и обливались, совершенно как наши дети. Над лагуной поднялся веселый гам, звучали взрывы смеха. Потом незаметно группы стали сближаться, и несколько мужчин ударили по воде ладонями так, чтобы струи брызг полетели на женщин. Те подняли довольный визг, но Бубу сердито зарычал, и купанье кончилось.
Теперь можно было приступить к пиршеству.
Пока люди купались, вождь занимался своей раненой ногой. Он быстро помылся, но оставил ногу сухой; потом сел на траву и перевязал рану. Там, на фактории, она у него посерела и стала тусклой, как вареное мясо. На дне язвы копошились черви. В условиях здешнего жаркого и влажного климата и отсутствия борьбы с инфекцией дальнейшие виды на его выздоровление мне казались весьма сомнительными. По моим соображениям, он должен был скоро умереть от гангрены или заражения крови. Но Бубу, сидя на траве и что-то сердито бормоча, развязал лианки и снял листья. Под ними оказалась свежая раневая поверхность, ярко-красная и без червей. Почему? Бубу показал мне лист, лист превратил язву в рану. Это целебное дерево, оно очищает раны. Затем жена Бубу, та самая старуха, которая во время сбора снеди распоряжалась в лесу, принесла фунтик из свернутого листа — в нем оказался дикий мед. Лекарь-больной смазал медом рану и долго искал какой-то лист. Я подал ему один из тех, что были на ране. Нет — это едкие, разъедающие, они очищают, а нужны другие, успокаивающие. Старуха предусмотрела и это: лист подан, аккуратно наложен на рану и прикручен лианкой.
Читать дальше