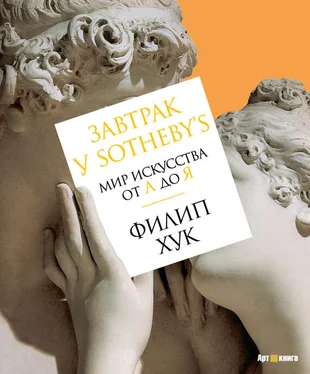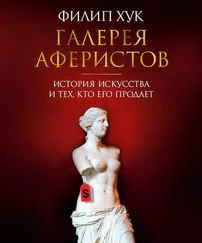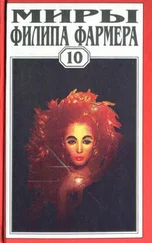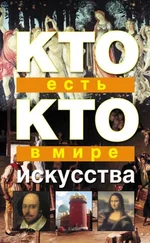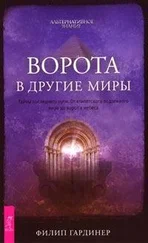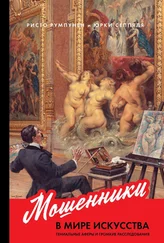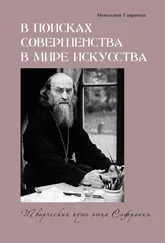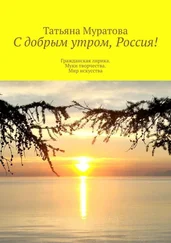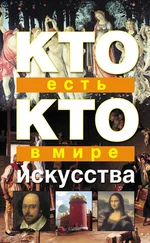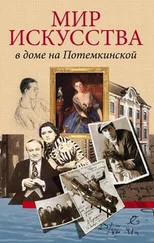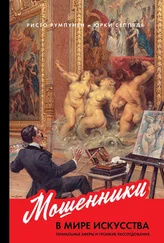Однако до Второй мировой войны «Кристи» уделял мало внимания изяществу помещений и удобству публики. Как писал в 1919 году французский художественный критик Рене Жампель:
«У этого знаменитого лондонского аукционного зала – свой неповторимый облик: в нем ничто не менялось более ста лет. Он просто удивителен! Его владельцы никак не потворствуют вкусу клиента, готового уплатить за картину двадцать, сорок, пятьдесят тысяч фунтов! В Англии, стране чистоты и комфорта, „Кристи“ имеет смелость пренебрегать любыми проявлениями уюта и даже не подметать полы, покрытые толстым слоем пыли! Картины ценою в несколько фунтов и полотна стоимостью в сотни тысяч вперемешку выкликаются на торгах и так же как ни в чем не бывало соседствуют на стенах. Они теснятся в три-четыре ряда, а самые прекрасные иногда и вовсе чуть видны под потолком».
Когда я впервые пришел на «Кристи» в 1973 году, там до сих пор царила чудесная, неповторимо британская атмосфера дилетантизма. Это было совершенно непонятное учреждение: не то закрытый аристократический клуб, не то музей – бастион британского истеблишмента, сотрудников которого отличала одновременно болтливость и сдержанность, надменность и ученость. Он мало напоминал «Сотби», который лидировал с пятидесятых годов и выглядел пугающе коммерческим предприятием. Один из директоров «Кристи», старый брюзга, втолковал мне, чем, по его мнению, мы отличались от «Сотби»: «Разница между нами и этими торгашами с Бонд-стрит в том, что среди нас нет гомиков!»
Вот до чего успех «Сотби» расстроил старую гвардию «Кристи». Справедливости ради, в те дни Питер Уилсон, директор «Сотби», действительно любил окружать себя красивыми (и одаренными) молодыми людьми. Если вам случалось в ту пору звонить в «Сотби», то вы помните, что на коммутаторе у них работал необычайно жеманный и манерный телефонист. Как-то раз звонивший попросил к телефону главу экспертного отдела: «Можно Джона Брауна?» – и услышал: «Почему бы и нет, если всем можно, всегда, сколько угодно, то почему вам нельзя? Соединяю». Но сексуальными предпочтениями различия не исчерпывались: «Сотби» был изобретателен, открыт для всяческих инноваций и умел делать деньги. Уилсону, блестящему, одаренному живым умом и воображением главе аукционного дома, мы в значительной мере обязаны созданием современного рынка предметов искусства.
Так сложилось, что оба лондонских аукциона издавна были оптовыми торговцами, в убогих условиях снабжавшими предметами искусства розничных торговцев помельче. В отношении роскоши и комфорта парижане намного опередили англичан. В 1919 году Жампель сравнивал лондонский «Кристи» с парижским аукционным домом Жоржа Пети, «который начинает с того, что привлекает клиентов уютом и комфортом, расставив в своей огромной галерее сотни обитых бархатом кресел. Он показывает им картины, подобно ювелиру, извлекающему из футляра сияющую драгоценность. Он полирует и золотит рамы и, разумеется, чистит и покрывает лаком холсты, которые затем в строго определенном порядке развешивает на стенах. Торги подготавливают тщательнее, нежели премьеру спектакля, даже устилая галерею дорогими коврами». Спустя сорок лет ковры появились и на полу «Сотби». Случилось это во время распродажи коллекции Якоба Гольдшмидта в 1958 году. Питер Уилсон добился права выставить на торги семь великолепных полотен импрессионистов из этого собрания. Он решил представить их публике на специальном аукционе, не предполагавшем продажи других картин и задуманном как подобие блестящего светского раута, из тех, на которые принято являться в смокинге. Роскошь и утонченность подействовали на всех завораживающе, а картины импрессионистов отныне стали продаваться за рекордную цену. Неожиданно аукционы превратились из коммерческих сделок, интересных разве что искусствоведам, в светские события.
А вот «Кристи» один мой знакомый французский арт-дилер как-то назвал «un peu constipé» [57]. Тогда это меня неприятно удивило, но сейчас я полагаю, что он был прав. «Кристи» упрямо придерживался старых традиций. В семидесятые годы картины из Австралии, Южной Африки, Канады и других бывших британских доминионов сваливали в кучу и продавали в разделе, именовавшемся «колониальной торговлей». В эту категорию включались и картины американских художников: возникало впечатление, что по крайней мере в зале совета директоров «Кристи» время остановилось в 1766 году. Сильной стороной аукциона были связи с английскими аристократами, сотрудники «Кристи» были вхожи во дворцы и замки, на протяжении столетий снабжавшие аукционный дом предметами для продажи. Успех «Кристи» был основан на отчетливом осознании того, что любой англичанин в глубине души считает искусство чем-то странным, неловким и повергающим в смущение. Оно взывало к чувствам и уже этим было подозрительно; оно требовало спорить о вкусах, и, наконец, сами произведения искусства были чьей-то собственностью. Они кому-то принадлежали. Ну разве не проявление невыносимо дурного тона и не вторжение в личную жизнь владельца – публично высказываться о его собственности? О его картинах? О его винах? Что следующее – его жена? Вот почему один пожилой аристократ, обладатель славной коллекции, почувствовал себя оскорбленным, когда его сын пригласил погостить оксфордского друга, молодого Кеннета Кларка. «Не вздумай снова его привезти! – взорвался он. – Он меня истерзал вопросами о моих вещах!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу