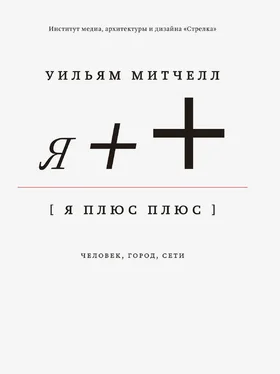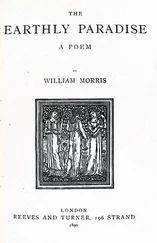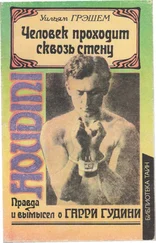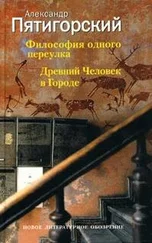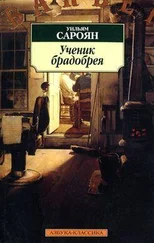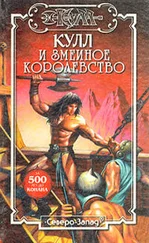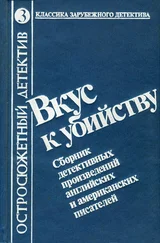От амбаров к серверным фермам
До эры дематериализации (э. д.) поселения строились вокруг стационарных, централизованных мест накопления материальных ценностей – главным образом излишков пригодной для хранения сельскохозяйственной продукции вроде зерна. Рассмотрим, к примеру, виллы Палладио в Венето примерно IV века до э. д. Они были окружены полями зерновых, виноградниками, фруктовыми садами и скотными дворами. Урожай зерна хранили на чердаке (где, кроме прочего, оно служило термоизоляцией), вино и сыр – в подвале (где всегда было прохладно), а потребители всего этого жили прямо посередине, в бельэтаже. Поскольку транспортировка осуществлялась за счет мускульной силы, очень важно было, чтобы расстояния между полями и хранилищами были небольшими, а от хранилища до потребителя – и того меньше. В этом была ясная пространственная логика и замечательная зрительная четкость; понять всю систему можно было, окинув ее одним взглядом.
Затем, с появлением все более эффективных транспортных технологий, основой планировки крупных городов стали разветвленные сети распределения, связывавшие производства различной специализации с местами накопления и потребления продукции. Поскольку транспортные издержки по-прежнему составляли значительную часть стоимости транспортируемых товаров, а на перемещение на дальние расстояния уходило много времени, местоположение всех этих пунктов во многом определялось соображениями досягаемости. К примеру, склады должны были располагаться достаточно близко и к поставщикам, и к клиентам. Таким образом, на формирование больших индустриальных городов II века до э. д., таких как Чикаго, решающее влияние оказывали их железнодорожные сети. А очертания городов I века до э. д., таких как Лос-Анджелес, определяли уже шоссейные дороги. На пешехода или водителя вид этих протяженных систем не производил особого впечатления, но с воздуха сразу становилось ясно, как они работают.
На заре э. д. – около 2000 года по старому летоисчислению – возникла новая модель. Серверы и серверные фермы, встроенные в высокоскоростные телекоммуникационные сети, обозначились как критически важные места накопления, характерные для новых городских структур. В отличие от предшественников – амбаров, складов, банковских хранилищ и библиотечных собраний – там хранились дематериализованные активы в цифровом формате: тексты, изображения, видео, музыка, компьютерный код и деньги. Эти помещения оставались совершенно неприметными, поскольку занимали сравнительно небольшие площади, никак не обозначались в целях безопасности и не оставляли никакого простора для архитектурного творчества. Более того, им была свойственна пространственная неопределенность; общепринятые практики рассредоточения резервных копий, кэширования файлов вблизи от предполагаемых пользователей, распределения баз данных по бесчисленному количеству серверов и постоянному переводу информации на новые устройства хранения затрудняли определение точного местоположения конкретных единиц. (В этом смысле сетевой документ совсем не похож на какой-нибудь ценный манускрипт, к примеру, Келлскую книгу, которая хранится в хорошо известной точке Тринити-колледжа в Дублине.) По мере распространения сетей и повышения их эффективности стоимость перемещения цифровых данных снизилась до ничтожной по сравнению с их ценностью, центральное расположение перестало играть существенное значение, и важные серверы могли теперь эффективно работать в отдаленных районах.
В итоге развитие недорогой миниатюрной электроники сделало связанные с такими серверами места производства и потребления все более разбросанными в пространстве и подвижными. Теперь они скорее были увязаны со свободно передвигающимися индивидами, нежели со стационарной архитектурой. Сегодня, когда вы качаете данные на свое беспроводное устройство или, наоборот, посылаете информацию с него, вам не важно, где находятся серверы, к которым вы при этом подключаетесь. Чаще всего вы этого не знаете и знать не хотите. Чем больше вы пользуетесь дематериализованными товарами, тем меньше вас волнуют местоположение и расстояние. И тем хуже заметны связи, определяющие суть происходящего.
В «Улиссе» Джеймс Джойс учил нас по-новому видеть город. С того момента, как около 8 утра 16 июня 1904 года «сановитый, жирный Бык Маллиган» просыпается и идет бриться, и до той секунды, когда Молли Блум проигрывает в памяти неоднозначное «да я хочу Да», в Дублине параллельно разматываются несколько клубков сознания его обитателей, посещающих по своим надобностям разные места 1. Нити этих клубков постоянно переплетаются, раскрывая взаимоотношения и обнажая хитросплетения мотивов и тайных желаний, в то время как герои снова и снова встречают друг друга.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу