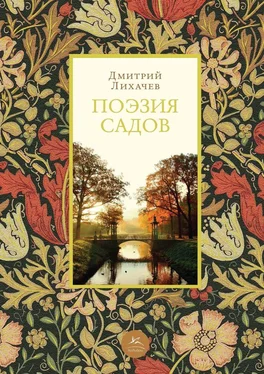Побывавший во всех знаменитых парках Европы И. С. Тургенев писал в письме к П. В. Анненкову от 14 (26) июня 1872 г.: «Я ничего не знаю прелестнее наших орловских старых садов – и нигде на свете нет такого запаха и такой зелено-золотой серости…» [525]
В письме к Г. Флоберу от 14 (26) июня 1872 г. И. С. Тургенев писал об аллеях сада в Спасском-Лутовинове: «Я думаю, что действительно путешествие в Россию вдвоем со мной было бы для Вас полезно; в аллеях старого деревенского сада, полного сельских благоуханий, земляники, пения птиц, дремотных солнечного света и теней; а кругом-то – двести десятин волнующейся ржи, – превосходно! Невольно замираешь в каком-то неподвижном состоянии, торжественном, бесконечном и тупом, в котором соединяется в одно и то же время и жизнь, и животность, и Бог. Выходишь оттуда, как после не знаю какой мощно укрепляющей ванны, и снова вступаешь в колею, в обычную житейскую колею» [526].
Для орловчанина И. А. Бунина, любившего усадебные сады, «темных лип аллея» (так правильно у Н. П. Огарева) была своего рода символом ушедшей России. Но вот что он сделал с сюжетом стихотворения Н. П. Огарева «Обыкновенная повесть». Любовь молодых он усилил трагизмом их различного положения в обществе. При всей своей любви к старым усадебным паркам – особенно орловским – он понимал, что жизнь в этих красивых местах была далеко не блаженной. Старую, ушедшую Россию он не только любил, но и умел осудить…
Самый рассказ о разлученных он не сделал ни сентиментальным, ни мелодраматичным. Кучер, оборачиваясь на козлах к старому генералу, когда коляска покидала дом, где жила его возлюбленная, говорит ему: «Баба – ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает».
В заключение следует сказать: «темные аллеи» уже для юного Пушкина были символом любви. В «Послании к Юдину» Пушкин вспоминает «милую Сушкову»:
То на конце аллеи темной
Вечерней, тихою порой
Одну, в задумчивости томной,
Тебя я вижу пред собой.
Без темных аллей не обходился ни один русский усадебный парк. Одна из самых знаменитых «темных аллей» России – «аллея Керн» в Михайловском.
Существует пагубный предрассудок, что для продления жизни аллей с тесной посадкой надо их разрежать. Старые аллеи гибнут от изменения условий жизни: от слишком большой доступности старых деревьев свету и воздуху, что заставляет их больше всасывать влаги из почвы, а это уже часто не под силу их старым стволам. Погибшие деревья надо заменять молодыми, которые довольно быстро догоняют взрослые столетние липы и начинают беречь их старость.
Но дело не только в этом. Русские усадебные сады требовали и некоторой запущенности и утилитарности. В своем дневнике под 1 апреля 1919 г. А. А. Блок записал: «…сад без грядок – французский парк, а не русский сад, в котором непременно соединяется всегда приятное с полезным и красивое с некрасивым. Такой сад прекраснее красивого парка; творчество больших художников есть всегда прекрасный сад и с цветками и с репейником, а не некрасивый парк с утрамбованными дорожками» [527].
Разросшийся регулярный парк обладает своей особой красотой, постоянно отмечавшейся и в русской поэзии, и в русской художественной прозе. «Старый запущенный сад» – это переросший себя регулярный сад, в котором особенно остро сочетается победа природы над началом рациональной регулярности.
Старый, разросшийся регулярный парк лег в основу стиля русских усадебных садов. В них постоянно просматривается и регулярная планировка, и выходы за пределы регулярности, создаваемые самой природой, ее вечными силами.
Эклектика в садово-парковом искусстве второй половины XIX в
Конец XIX в. отмечен в истории архитектуры развитием эклектики. Долгое время понятие эклектики в истории архитектуры было явно уничижительным. Между тем две особенности архитектурной эклектики должны привлечь к ней особое внимание и должны быть положительно оценены.
Первое. Понятие эклектики предполагает выбор лучшего. При достаточно высокой культуре архитектора, работающего по принципам эклектики, можно ожидать от него удачных и разнообразных архитектурных решений. Эклектика по самой природе своей дает возможность сочетать ее со старыми сооружениями, продолжать (а в некоторых случаях создавать) архитектурные ансамбли (площади, улицы), она «подстраивалась» к ним и не разрушала сложившегося облика города.
Второе. Эклектика резко повысила изучение истории архитектуры, создала благоприятные условия для овладения архитекторами культуры архитектурного рисования, культуры «архитектурной детали». В какой-то мере это «научный стиль». Если в архитектуре ампира, классицизма уже предполагалось знание архитектором какого-то одного стиля, творчества нескольких предшествующих архитекторов, обращение к «архитектурной археологии», то в эклектике необходимость таких знаний резко повысилась. Архитектура потребовала высокой образованности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу