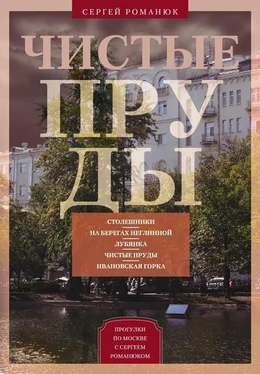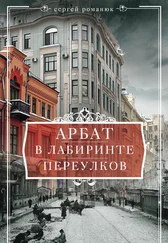Слобожане выстроили в 1657 г. рядом со старой деревянной новую каменную церковь на земле, пожертвованной тяглецами Мясницкой сотни Александром Марковым и Никитой Гавриловым. В церкви находился резной золоченый иконостас с иконами, современными храму, а на тумбах клиросов были изображены древние философы, державшие свитки с изречениями, — Платон, Аристотель, Солон. На южной стене церкви сохранялась железная дверь с «замечательно богатым наличником» XVII в., великолепная по форме шатровая колокольня. По словам архитектора В. П. Десятова, обследовавшего церковь, она являлась «прекрасным памятником русского искусства».
Еще в 1925 г. были поползновения разрушить эту церковь — МСНХ (то есть Московский совет народного хозяйства) вознамерился на ее месте выстроить здание машиностроительного треста, но тогда удалось церковь отстоять. Однако в период строительства метро этого сделать уже не получилось: в 1932 г. власти, «принимая во внимание необходимость постройки основной шахты Метростроя», постановили «разрешить Сокольническому райсовету церковь так называемого Флора и Лавра закрыть, а здание ее снести» и, конечно, снесли. Произошло это в 1934 г. Под ее алтарем во время строительства метро был обнаружен узкий тоннель, разделявшийся на три извилистых хода. Их, к сожалению, не исследовали и засыпали, а возможно, что и сейчас там лежат клады, зарытые москвичами в тяжелые времена. Существует проект восстановления церкви известного архитектора А. А. Анисимова.
На углу Фролова переулка — здание театра под странным и ничего не говорящим названием «Et Cetera» (что по-латыни значит «и так далее»). Здание выросло такое, что оно вызывает у жителей и прохожих оторопь: нагромождение не поддающихся логическому объяснению разных форм, «объединенных» большим гвоздем со шляпкой, а в этих формах неожиданно видны порталы, колонны, детали классической архитектуры, как-то неуклюже прилепленные ни к селу ни к городу, и все это перебивается случайным образом окнами произвольной формы.
Это сооружение вызвало такие отзывы специалистов: «…архитектурные детали нарисованы оскорбительно плохо. С основным объемом они монтируются очень странно. Это выглядит так, будто триумфальными арками и величественными римскими колоннами решили украсить цирк-шапито, причем, пока украшали, настоящие колонны и арки сперли, и вместо них штатный художник шапито что-то такое сварганил по мотивам». «Градус абсолютной дикости, которую транслирует в окружающие переулки (с застройкой 1890–1900-х гг.) новое здание, от этого подскакивает неимоверно. До такой степени, что глазам перестаешь верить, осознавая, что вот это построено в самом центре Москвы… Не столько театр, сколько богатая дача в коттеджном поселке, где все правила вкуса легко поправлены вкусом владельца. Если поверить, что театр начинается с вешалки, трудно себе представить, что должны будут показывать на сцене „Et Cetera”, дабы соответствовать стилю здания».
Как можно было возводить такое бредовое сооружение здесь, в старом московском переулке, — непонятно. Это значит не только не уважать себя как творца, но еще и не уважать то дело, которым ты занимаешься, и, более того, не уважать людей в этом городе, да и сам город, в котором, как оказалось, можно так гадить. Это здание — яркий пример беспардонной, какой-то наглой архитектуры, вторгнувшейся в Москву в последнее время. Хуже этого трудно было бы что-то придумать.
Неудивительно, что один из архитекторов, который начал работать над зданием, был вынужден отказаться от авторства. Он заявил: «Мне просто стыдно, что про меня могут подумать, что я это спроектировал». На доске, помещенной на стене театра, приводятся фамилии архитекторов: А. Великанов (это он отказался), А. Боков, М. Бэлица, А. Кузьмин.
Глава VII
Лубянская площадь
«Я была на Лубянке», «Мы вернулись с Лубянки», «Нам надо на Лубянку», — если для молодых в этих словах содержится только сообщение об одной из московских площадей или же станции метро, то люди старшего возраста от таких слов вздрагивают. Еще сравнительно недавно слово «Лубянка» означало вездесущую и безжалостную тайную советскую полицию. «Попасть на Лубянку» — означало или верную смерть, или каторжные работы, и не только для себя, но и всех близких. Тут находилась штаб-квартира самой тайной и в то же время самой известной советской организации.
Слово «Лубянка», возможно, пришло в Москву из Новгорода. В 1471 г. великий князь Иван III, продолжая политику своих предшественников, обрушился всей военной мощью на наиболее экономически и культурно развитую часть русских земель.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу