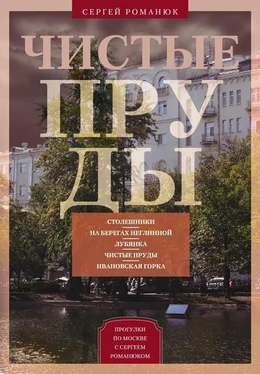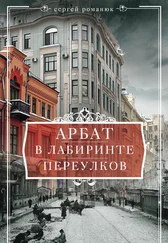Сначала это был клуб только московских дворян, созданный по инициативе сенатора М. Ф. Соймонова и князя А. Б. Голицына, на чье имя был записан дом, но с февраля 1793 г., когда Екатерина II повелела считать его собственностью не частного лица, а всего собрания, здание стало официально принадлежать Благородному собранию. Впоследствии дворяне постановили установить в главном зале статую императрицы, изваянную скульптором Мартосом. Произошло это 21 апреля 1812 г., незадолго перед вступлением Наполеона в Москву. Многие тогда говорили о неблагоприятных предзнаменованиях, и особенно запомнилась современникам комета с ярким хвостом — будет беда, шептали москвичи. Потолок зала собрания украшала роспись, на которой художник изобразил орла с распущенными крыльями, окруженного мрачной темно-синей тучей, из которой сверкали молнии. Как передает современница, «многие тогда ви дели в этом дурное предзнаменование, которое и сбылось, и императору Александру Павловичу, посетившему тогда собрание, должно быть, это не очень полюбилось, потому что он, взглянув на потолок, спросил: „Это что же такое?“ — и, говорят, нахмурил брови. Он был довольно суеверен и имел много примет…».
Дом собрания существенно пострадал от пожара 1812 г. Стендаль, прибывший в Москву с французской армией, записал в дневнике впечатления о Колонном зале: «…величественный и закоптелый. В Париже нет ни одного клуба, который мог бы с ним сравниться». В пожаре, в частности, были уничтожены росписи художников Доменико Скотти и Антония Канопи и лепные барельефы. После изгнания Наполеона дом долго не удавалось восстановить — у дворян не было средств. Только в декабре 1814 г. он, отстроенный архитектором В. А. Бакаревым, был открыт. В журнале «Амфион» была опубликована статья под названием «Чувства при открытии дома Московскаго Благороднаго собрания». Некий Иванов писал: «Несправедливые, завистливые Иноземцы! почто не были вы свидетелям торжества сего, совершаемаго на том месте, где за два года хищнические руки потрясали пламенниками, подобно неистовым Фуриям, и разливали повсюду пожар и опустошение, где уста варваров изрыгали ужасные вопли дикой радости, видя низвергающиеся во прах памятники искусства…»
По всей России славились балы в доме собрания, проходившие с октября или ноября и до апреля (в пост они заменялись концертами). По словам князя П. А. Вяземского, балы были «настоящим съездом России». Осенью в Москву прибывали длинные помещичьи обозы, привозившие своих хозяев со всем скарбом и припасами на долгую зиму на «ярмарку невест». Как писал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург», «Москва была сборным местом, для всего русского дворянства, которое из всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания раза два в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками».
Вот впечатления провинциала, приехавшего в начале XIX в. из Казани в Москву и попавшего на бал в Благородное собрание: «Вход в освещенные комнаты, особливо в огромнейший длинный зал, наполненные лучшим дворянством обоего пола, был поразителен. В тот вечер до четырех тысяч персон, собранных в одном доме, одетых в лучшее платье, особливо дамы и девицы, украшенные бриллиантами и жемчугом, составляли для меня восхитительное зрелище, каким я никогда не наслаждался.
Здесь видел я всех красавиц московских, всех почетнейших людей века Екатерины Великой и даже Елизаветы императрицы…»
Очень были популярны детские балы балетмейстера Петра Йогеля, который попал даже в классическую литературу — в роман «Война и мир». Йогель учил танцам многие поколения московской молодежи, и на балах встречались его ученицы бабушки и дедушки с внуками — ему «столько ног обязано своим образованием», писал журнал «Галатея».
В 1827 г. «Дамский журнал» так рассказывал о бале: «…данный г-ном Йогелем классический бал 21 декабря в доме Благородного собрания был самым блестящим по своему предмету. С танцовавшими детьми соединились и молодые дамы, и военные кавалеры. Гостей у суетившегося хозяина о непрерывном движении, происходившем в двух залах, было до 400».
Здание Российского Благородного собрания — одно из пушкинских мест Москвы. На балах в собрании бывал Пушкин, сначала как приглашенный, а после февраля 1827 г. — как постоянный «член-кавалер», а впервые Александр Сергеевич побывал здесь после приезда из Михайловского. Сохранились воспоминания современников о том, как они видели поэта в зале собрания. Т. П. Пассек писала о посещении зала 2 апреля 1829 г., когда она была на хорах: «Внизу было многочисленное общество, среди которого вдруг сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодые человека. Один был блондин, высокого роста; другой — брюнет, роста среднего, с черными, кудрявыми волосами и выразительным лицом. „Смотрите, — сказали нам, — блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин“. Они шли рядом, им уступали дорогу». Об этом же дне вспоминал много позже А. И. Герцен: «О, боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я вырасту, поумнею, поглядевши на него. И я увидел, и все показывали, с восхищением говоря: вот он, вот он!..»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу