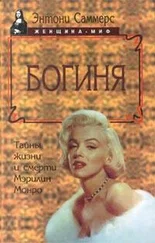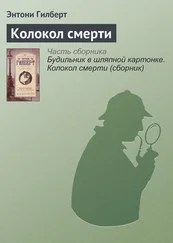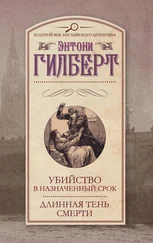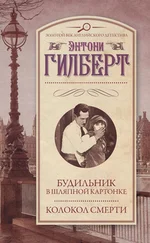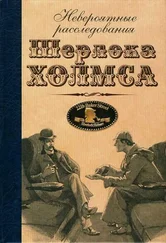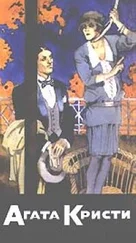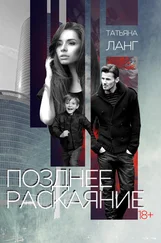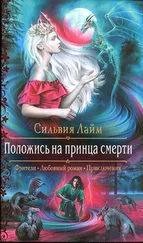Через некоторое время на смену торжественности и сентиментальности обычно приходят коллективные насмешки над смертью, и в том же возрасте многие дети совершают рискованные поступки, выражая активное презрение по отношению к ней. В этом скрыта защита от тревоги, которая у многих людей сохраняется на всю жизнь, так что жизнь без возможности риска кажется им бессмысленной.
Фрейд отмечал, что ребенок, в отличие от взрослого, не сдерживает выражение мыслей о смерти, давая им развитие как прямо, так и в фантазии [424] . Это наблюдение было впоследствии подтверждено исследованиями в Швейцарии, Англии, Венгрии и Америке. Однако ошибочно было бы полагать, что поведение ребенка в норме совершенно свободно от тревоги. Вера маленького ребенка в магическую силу собственных желаний должна приводить к страху и тревоге, связанным с его агрессивными импульсами в отношении тех, от чьих забот зависит его благополучие. Эти импульсы находят выражение в фантазиях, в которых агрессивные побуждения чередуются с искупительными. Характерная для этого этапа тревога ослабевает благодаря постепенному принятию ограниченности психической силы в отрыве от физического действия. Магия из опасной жизненной реалии превращается в выдумку из волшебных сказок.
Нормальному ослаблению тревоги можно способствовать или препятствовать. Часто дискутируется вопрос о том, знакомить ли ребенка с традиционными «волшебными сказками». Родители Кац, которые «пытались насколько возможно оградить своих детей от каких-либо представлений о смерти, особенно смерти человеческих существ», считали, что «в волшебных сказках много – слишком много – говорят о поражении насмерть, сжигании заживо, повешении и других методах вызывания перехода от жизни к смерти» [425] . По их мнению, ребенок не понимает, что реально стоит за всем этим. «Для ребенка смерть в волшебной сказке, возможно, значит не более чем «больше не играет»: уход персонажа со сцены». В своей интеллигентской озабоченности проблемой открытия смерти ребенком супруги Кац, по-видимому, не отдали себе отчет в основной сложности, связанной с тем, что «реально стоит за всем этим» в волшебных сказках, которые они имели в виду, – очевидно, тех, что традиционно предлагались детям в центральной Европе в 1840–1940 гг., то есть märchen [426] , собранных братьями Гримм. (Французские дети, вероятно, в основном вырастали на более цивилизованной и остроумной коллекции Перро, из которой английские дети больше всего полюбили Кота в сапогах. ) Братья Гримм, превосходные ученые, добросовестно передали народные сказки в изложении неграмотных взрослых, причем версии некоторых из них были откровенно садистическими. То, что в этих историях часто говорится о смерти, само по себе не делает их неподходящими для детей, поскольку смерть часто появляется и в собственных детских фантазиях. Простодушное наслаждение жестокостью, нередко очевидное, свидетельствует об аутентичности сказок. Но и такая жестокость, с ее незрелостью, отнюдь не чужда детской психике. Однако взрослый, развлекающий ребенка подобным материалом, активно поощряет в нем склонность к садизму, и этот факт может вызывать тревогу у детей, как принимающих, так и отвергающих сказку. Автор 30-х гг. описывает, как волшебные сказки братьев Гримм способствовали садистической установке ребенка в нацистской семье:
...
Всегда Труди за едой получала по рукам, потому что клала их на стол, а затем ей полагалась волшебная сказка, и каждый раз это была… «Волк и семеро козлят», и когда эта сказка кончалась словами: «Волк сдох, волк сдох, ура, ура», то кровожадность и свирепость на личике маленькой девочки-невротика были большим, чем я могла выдержать. И была еще одна сказка, которую она иногда позволяла рассказывать… о Белоснежке и ее жестокой мачехе… В конечном итоге Белоснежка вырастает и выходит замуж за своего принца. А злая мачеха? Ну, вот что с ней случилось. Она случайно оказалась на радостном свадебном празднике, они схватили ее и заставили танцевать в раскаленных башмаках да тех пор, пока она не упала замертво: «Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel». Идея понятна? Не хотите испробовать на ребенке? [427]
Здравое психологическое размышление говорит нам, что, в принципе, народные сказки представляют собой подходящий материал для детского воображения. Их позитивная ценность связана с использованием простых символов, которые ребенок способен понять. Когда к таким символам прибегает не столь наивный взрослый, его простодушие неловко или фальшиво. В качестве примера можно привести распространенную в народных сказках тему метаморфоза – превращения одной вещи в другую, иной формы, – который не объясняется, а предъявляется как простой факт. Эти истории – не для того, чтобы им верить, и тем более, – не для того, чтобы не верить; они – чтобы развлекать и возбуждать, а мораль (если она нужна) – в том, что внешние проявления обманчивы. Они могут добавлять эмоциональности научному наблюдению метаморфоза, как у нашего испытуемого, Ричарда (5 л. 5 м.), который
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу